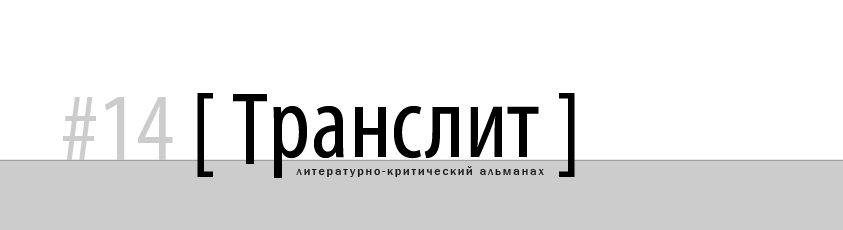В рубрике Пре-принт находятся тексты из редакционного портфеля, планирующиеся к публикации в печатной версии |
Последние обновления блога "Транслит": |
|
Александр Скидан. Тезисы к политизации искусства Роман Осминкин. О Поэзии прямого действия "Смерть и жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его" Поэзия хочет быть всем и всюду. Дмитрий Александрович Пригов говорил, что искусство не занимается последними истинами, а занимается предпоследними. Оно готовит человека к этим последним истинам, которые могут быть рассеяны во всей его деятельности. Отсюда поэзия прямого действия – это и поэзия, оказывающая действие, имеющая конкретный адресат, к которому она обращается с помощью художественных средств, но в то же время – она и принадлежит действию, подготавливая к действию и предвосхищая его. Чтобы не сводится к действию, эта поэзия должна всегда удерживать свое значение и логику в состоянии неопределенности и неопознанности. Ее действие – это не что-то уже существующее, ожидающее лишь исполнения, а производная от истины, ее вызревший момент . Она оставляет иллюзию эстетического дистанцирования, не осуществимого в обществе глобальной эстетизации, и обещает чудо. Но не овеществленное чудо, независящее от воли человека, а чудо как утопию , доселе немыслимую реальность , которую можно созидать своими руками. Стоящая в авангарде практического действия, эта поэзия не терпит мифических опосредований и «говорений через поэта Духа», она уходит от абстрактного отношения к реально существующей данности, где поэт выступает в роли «этакого пророка, отошедшего от своего времени и расточающего краеугольные афоризмы» [1]. Поэт из мяса и плоти формирует свою социальную субъектность здесь и сейчас. Все роли скомпрометированы. Маскарад не работает - поэт срывает маски, отказывается от «избранничества» и становится рядом с Другим, с тем, кого считает «угнетенным», с кем идентифицирует и себя [2]. Не есть ли эта самоидентификация лишь очередная роль? Может быть и так, но роль не внутри игрового пространства, где игра, по словам Гельдерлина, есть то, что сводит людей вместе, но так, что при этом каждый забывает о себе и ничем не проявляет присущего ему живого своеобразия [3]. Это скорее место того самого Другого, которое занимает поэт, принося себя в жертву ради достижения понимания с ним. Если Другой станет отраженной субъектностью поэта, а следовательно, поймёт на каком языке с ним говорит поэт, то возникнет та самая ситуация лицом-к-лицу , в которой язык обладает присущим ему качеством взаимности [4], отличающим его от других знаковых систем. Бодлер уподоблялся своему читателю, называя того «Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frere» [5], желая побороть в нем (себе) чудище «Скуки», а Рембо, устраняющий различие между поэтом и не-поэтом, видел свое место рядом с «Infames», «Forcats» и «Maudits» [6]. Но они, становясь на сторону угнетенного Другого, продолжали говорить с ним на своем языке. И выскоий модерн и постмодернизм только добавили кирпичей в стену «глухого непонимания», и семиотический барьер оказался выше способности и, главное, заинтересованности в коммуникации. А утрата языка коммуникации, по словам Ги Дебора, есть прямое выражение разложения и формального уничтожения всякого искусства. И новый общий язык, по его словам, должен быть заново обретён не в односторонней демагогии, а в практической деятельности, которая бы объединила в себе и само действие, и его язык [7]. Поэзия прямого действия жаждет взаимности, этой интерсубъективной близости между субъектом говорения и потенциальным субъектом действия. Она уже не может позволить себе быть лишь «имплицитно упакованным» чувственным опытом поэта – ей нужно осуществляться в каждом моменте, и ради этого она готова даже на развоплощение. Развоплощение вплоть до малоблагообразности и нарочитой безыскусности слова. На смену лексической экспансии и синтаксических эллипсов приходит лексическая необходимость и новонормативный синтаксис [8]. Поэтический язык избавляется от метафоричности и риторических красот, от аллегорий и тропов и, кажется, вот-вот утратит доминанту эстетической функции [9], из-за которой он и опознается в качестве поэтического. Он словно бы идет против природы художественного творения, суть которой неисчерпаемость и несводимость к набору рациональных формулировок. Но мы забываем, что само понятие «эстетического» исторично и насквозь пронизано противоречиями. Рациональная формулировка может быть куда ближе к сущности поэзии, если она принадлежит к определенному времени, но не соразмеряется с этим временем как с чем-то уже существующим, а предполагает некое историческое время. В наше время позднего капитализма с его обществом глобальной эстетизации повседневной жизни любое высказывание воспринимается и осознается эстетически, и получается, что, желая сказать что-то новое и важное, поэт невольно встраивается в тотальность консьюмеристского общества, ориентированного на постоянное обновление своих эстетических желаний. Происходит эстетизация этического [10] с последующим его обессмысливанием. Поэзия прямого действия вызволяет слово из этой эстетической западни, используя «простой моральный словарь» и, с одной стороны делает его умопостигаемым для читателя, а с другой - ежемоментно переосмысляет и конституирует само понятие морали, что позволяет слову избегать окончательного понимания и оставаться востребованным, длиться. Текст «притворяется простым» [11], запечатывая свою эстетическую функцию как иглу в яйце . Поэт не позволяет апроприировать свою поэзию культуриндустрии «общества риска» [12] и превратить ее в продукт развлечения. Он стремится преодолеть роль шестеренки в этом глобальном механизме и обрести субъективность не в виде «человеческого капитала», а субъективность своего социального и политического «я». Поэт находится в непосредственной связи с жизнью, и его поэзия ответственна перед ней. Настоящая поэзия прямого действия не в эстетическом отчуждении и не в категоричных императивах лозунга или агитки, а в создании условий для уникального события, переживаемого и интерпретируемого каждым человеком - потенциальным деятельным соучастником этого события. Поэзия прямого действия – это постоянное обещание утопии, своим голосом шаг за шагом работающее над производством Истины . Примечания: 1. Ален Бадью «Век поэтов». (пер. с фр. С. Фокина) «НЛО» 2003, №63 2. «Я безусловно остаюсь провинциальный подросток», - пишет Елена Фанайлова в недавнем стихотворении «Лена и люди» («НЛО» 2008, 91). Еще один пример – бастовавшие в 1968 году парижские студенты, которые в ответ на выпады консервативных властей, что волнениями руководят немецкие евреи вышли с плакатами “Мы все — немецкие евреи”. 3. В письме к брату (от 1 января 1799г. III, 388 и далее) Гельдерлин пишет: 4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — М.: «Медиум», 1995. с. 19-23 5. "Лицемерный читатель, — мое подобье, — мой брат!". Шарль Бодлер «Цветы зла». 6. «Le Poete prendra le sanglot des Infames, La haine des Forcats, la clameur des Maudits…» ("Поэт подхватит рыданья обесславленных, ненависть каторжников, ропот отверженных…" (фр.)). Артюр Рембо, «Парижская оргия, или Париж заселяется вновь». 7. В «Обществе спектакля» Ги Эрнест Дебор пишет: «Утрата языка коммуникации получила своё прямое выражение в современном процессе разложения всякого искусства, в его формальном уничтожении. Обратно, это движение выражает то обстоятельство, что новый общий язык должен быть заново обретён не в односторонней демагогии, не особо доходчиво рассказывающей всем остальным, что было прожито и чего не хватало в прошлом, а в практической деятельности, которая бы объединила в себе и само действие, и его язык. Дело заключается в том, чтобы действительно добиться общности диалога и игры со временем, т.е. воспроизвести эту общность в поэтическо-художественном произведении». 8. Подразумевается создание новой нормативности, которую в своей статье «Тезисы новой нормативности» (Художественный жкрнал №67/68 янв. 2008) Дмитрий Голынко-Вольфсон характеризует как «нормативность прорыва и преодоления, а не комфорта и благополучия, общности и противления, а не консенсуса и разобщенности». 9. Якобсон Роман «Язык и бессознательное» (Работы разных лет) Издательство «Гнозис» М.1996. с.119-123 10. Это понятие вводит Евгений Барабанов. В статье «Ресурс этического: между эстетизацией и утопией» (Художественный журнал №57, апр. 2005) он говорит, что сегодня «правильнее говорить об эстетике взгляда. А в более широком смысле – об эстетизации этического. Что это означает? и о какой эстетике идет речь? В нашем случае, прежде всего, конечно, об эстетике новой тотальности, заданной политикой слияния власти и капитала: то есть, с одной стороны, об отказе воспринимать искусство как отдельную сферу жизни, а с другой – в теоретической рефлексии – о полагании эстетики потребления в центр диагностических и прогностических анализов. Понятно, что современное искусство здесь также встраивается в эстетику воздействий: неважно, аморальной, циничной "эстетики шока" или этически стилизованной "эстетики самоограничения". Во всех случаях оно встраивается в перспективу, уже предвосхищенную заказами на обновление ассортимента желаний, прихотей, воздействий. 11. «Это сложный текст, Даже когда он притворяется простым, Как сейчас» - Елена Фанайлова «Лена и люди» («НЛО» 2008, 91) 12. В номере газеты платформы «Что делать?» «Дебаты об авангарде» Брайан Холмс говорит в своей статье «Угрозы новых авангардов?»: «Глобальное общество – это общество риска: оно пользуется, вбирая их в себя, любыми формами нестабильности и неустойчивости, просчитывая их как потенциальную выгоду или убыток. <…> в художнике видят того, кто пользуется неустойчивостью на психическом уровне, а затем избегает этого момента субъективного риска, избавляясь от него, выбрасывая его образ как готовый продукт, то есть товар». Вадим Лунгул. Поэтический Манифест Пришло время поэзии меняться. Свою задачу автор видит в том, Первое, Второе, Третье, Четвертое, Пятое, Шестое, Автор не имеет права рассчитывать на жалость читателя, Седьмое, Восьмое, Девятое, Десятое, 11 ноября 2007 1. Леонид Костюков, редактор журнала "Девушка с веслом". 2. Сравни с таким рассуждением: когда мы читаем Комедию Данте, читатель все время вынужден с замиранием духа следить, куда это автор еще нас заведет и что заставит еще вытерпеть. Данте-автор чуть ли не с силой заставляет Данте-персонаж приближаться поближе к казнимым в кругах ада и выслушивать их душераздирающие истории, а ведь Данте-персонаж не из храбрецов. http://kirillmedvedev.narod.ru/Dm-Kuz.html Илья Кукулин. Форматирование доверия Обратим внимание на два интересных обстоятельства. Первое. Премия «Неформат» — вполне публичная институция, и в ее жюри 2008 года входили известные фигуры. Более того, каждый из участников жюри является культовым или по крайней мере авторитетным для той или иной референтной группы: писатель Юрий Мамлеев, телеведущая Ксения Собчак, литературный критик Лев Данилкин, поэт и политический пиарщик Андрей Орлов, который в интернете публикуется под именем Orlusha, а сам себя называет «литературным хулиганом» — почти как Сергей Есенин. Тем не менее вплоть до момента объявления результатов деятельность премии «Неформат», как то: состав жюри, шорт-лист и т.д. — в интернете практически не обсуждалась. Второе. Из всех результатов первого «Неформата» предметом общественного внимания стало только присуждение премии Полозковой. Ульяна Гамаюн, допустим, автор загадочный, ранее не публиковавшийся, и ее романа пока никто, кроме жюри, не читал. Но ведь и о Еве Рапопорт мало кто говорит. Одним из главных знаков скандала оказалось приглашение, помещенное в блоге поэта и критика Евгении Вежлян: всем желающим предлагалось принять участие в диспуте под названием «Поэт ли Полозкова?». Саму тему Вежлян прокомментировала так: «Ответ, по-моему, очевиден. Но есть разные точки зрения». Как выяснилось из дальнейшей дискуссии, под «очевидным ответом» г-жа Вежлян имела в виду ответ отрицательный. Немедленно после публикации этого анонса началось коллективное толчение воды в ступе. Вполне уважаемые люди стали долго и изнурительно спорить о том, можно ли в наше время так ставить вопрос: кто поэт, а кто не поэт. В самом деле, такое оценочное словоупотребление больше всего напоминает терминологию советского педсовета. Видимо, размах, который приняла дискуссия, несколько смутил г-жу Вежлян, которая вскоре после этого заявила, что ее формулировка была сознательной провокацией. Г-жа Полозкова опубликовала у себя в блоге гневный манифест, в котором, в частности, говорилось: «Мне жаль немного, что жизнь у узкопрофессионального поэтического сообщества стала так бедна на информационные поводы, что им больше не о чем поспорить, кроме как о том, поэт ли Вера Полозкова». Спасибо г-же Полозковой, что, хотя бы и немного, пожалела наше бедное сообщество, но все-таки согласиться с ее высказыванием трудно. Жизнь людей, которые планировали поспорить о том, «поэт ли Полозкова», совсем не бедна на темы для размышений — это легко видеть из их интернет-блогов. Судя по репликам читателей блога г-жи Вежлян, реакция части из них была адресована не персонально Полозковой. Насколько можно понять, и поклонники, и оппоненты Верочки сочли, что присуждение премии «Неформат» есть заявка на передел литературного поля, а цели у этого грядущего передела будут откровенно популистскими. Показателем того, кто у нас самый неформатный, то есть самый интересный, необычный, новаторский поэт, станет размер аудитории блога. То есть решающий голос в литературном процессе будет принадлежать «простым читателям». Подобную коллизию нельзя назвать чем-то беспрецедентным для русской литературы: относительно недавно, в начале 2000-х, очень похожие дискуссии шли в интернете и в литературных салонах, когда в Москве Вячеслав Курицын организовал первые слэм-турниры, на которых эстетические достоинства поэтов определяли слушатели своим голосованием. Вскоре слэм сложился в достаточно вменяемую субкультуру, а потом, во второй половине 2000-х, постепенно вышел из моды. Схлынув, волна слэма оставила по себе нескольких ярких поэтов, бывших звезд слэм-турниров — Дину Гатину, Андрея Родионова, Анну Русс. В убытке пока не остался никто — ни эксперты, ни читатели. Различий между нынешней дискуссией и восьмилетней давности спорами вокруг слэма, коротко говоря, два. Во-первых, на слэме призы были небольшими, а теперь популистскую стратегию избрала для себя официальная институция, которая рекламирует себя в СМИ и располагает более или менее значительными деньгами. Во-вторых, жюри премии «Неформат», которое должно было бы выступить как сообщество экспертов, выступило в 2009 году в качестве «простых читателей». На слэмах, или «чемпионатах мира по поэзии», стремление придать поэзии черты публичности исходило изнутри — воспользуюсь терминологией Полозковой — «узкопрофессионального поэтического сообщества», и поэтому поэт, имевший маленькую интернет-аудиторию или негромкий голос, мог хотя бы теоретически рассчитывать на успех. Премия «Неформат» тоже привносит в поэзию идею публичности, но извне и в готовом виде, как директиву. Причем публичность эта такая, какой ее себе представляют руководители премии и члены ее жюри. Несмотря на то что трое из четверых членов жюри являются активными участниками литературного процесса, их решение неизбежно воспринимается как внешнее: за исключением Мамлеева (о котором я еще скажу подробнее), жюри не объяснило публично мотивы своего выбора и соотношение этого выбора с программой премии «Неформат». Присуждение «Неформата» в очередной раз демонстрирует, что в России разрушены или дискредитированы институты публичной экспертизы в области культуры; одним из них является литературная критика. В другой ситуации награждение Полозковой вызвало бы не растерянность одних и радостные реплики других (вроде «Наконец-то все поймут, что такое настоящая поэзия! Наконец-то придет лесник и пошлет всех на фиг!»), а несколько содержательных статей о том, какого рода поэзию представляет Полозкова (и какого рода прозу — Рапопорт), в рамках какой системы координат произведено награждение и т.д. Премии тоже вроде бы должны быть институциями публичной экспертизы, но в российской практике эта их функция фатально не срабатывает: результаты их деятельности «не считываются» без дополнительных, иногда довольно больших усилий. К «Неформату» это относится в полной мере: непонятно, почему премия, которая декларирует установку на необычность, дискомфортность, отказ от привычных вкусов, была присуждена автору хотя и талантливому, но достаточно традиционному по своей поэтике? Вера Полозкова непротиворечиво сочетает в своем письме поэтические стили, самые востребованные среди нынешней молодежи, но вообще-то находящиеся в отношениях жесткой полемики — от Дмитрия Быкова до Линор Горалик. Ответ на вопрос о том, почему премию «Неформат» дали именно Вере Полозковой, в первую очередь связан не с творчеством г-жи Полозковой, а с новейшей стратегией российских элит — не только культурных, но и политических. Один из ключей к пониманию этой стратегии дает интервью председателя жюри Юрия Мамлеева, опубликованное на информационно-аналитическом портале «Евразия». Здесь, хотя и на довольно причудливом языке, артикулированы те пожелания, которые предъявляют поэзии нынешние российские элиты. Мамлеев по своим убеждениям далеко не во всем с ними солидарен, но выразил вполне характерные эстетические вкусы: «Мы (жюри. — И. К.) в принципе допускали, поскольку сейчас как будто бы свобода, можно писать и публиковать все, что угодно, что в проекте окажутся тексты с матерщиной и сексуальными суперизвращениями. Якобы это нельзя поместить в так называемый «формат». Но на самом деле все это есть в формате. Неформат обернулся совсем не тем лицом, о котором мы думали... Неформат обернулся внутрь себя — прозаики и поэты, защищая себя от холодного, циничного мира голого чистогана, выработали в себе систему защиты, систему погружения внутрь себя, своего субъективного мира. <…> ...Субъективный мир, создание микросоциума, кружка, в который входили друзья и родные этих людей и создавали неповторимую атмосферу, которая частично была на Южинском. Микросоциум, микромир, который защищает от этого чудовищного мира. Это было первое, что мы обнаружили». Южинский — это переулок в Москве, в котором сам Мамлеев жил в 1960-е годы; в то время в его квартире действовал домашний литературно-художественный салон, отличавшийся, насколько можно судить по воспоминаниям, игровым культивированием духа «подполья». (В скобках замечу, что дух этот далеко не всегда был присущ российскому неофициальному искусству, так что называть его — все в целом — андеграундом было бы некорректно.) Очевидно, значение поэзии в современном российском обществе возрастает. Процесс этот пока не может быть зафиксирован социологическими инструментами: девять тысяч читателей блога — аудитория для интернета очень большая, но обычные опросы ее не «выловят». Вряд ли когда-нибудь влияние новейшего стихотворства в российском обществе хотя бы приблизится к тому, которое имела в 1960-е официальная эстрадная поэзия — тогда причины ее популярности были во многом нелитературными. Тем не менее налицо рост интереса к стихам среди вполне определенной аудитории — студентов и молодых горожан с высшим образованием, которые привыкли едва ли не каждый день читать в интернете «своих» поэтов. С социологической точки зрения об этом феномене подробно пишет Наталья Самутина в предисловии к книге стихов Федора Сваровского, готовящейся к изданию в «НЛО» (конец рекламной паузы). Сегодня подавляющее большинство общественных сфер в России — политика, историческая память, юриспруденция, массовая культура — так или иначе дискредитированы, говорить о них принято с кривой улыбкой и выражением лица, означающим: ну вы же понимаете, с поправкой на местный уровень... Или: мы никогда не выясним, кто это заказал и проплатил, но ведь все более-менее и так ясно... Доверие к поэзии, особенно к распространяющейся в интернете, разительно противоречит этой динамике. (О качестве этой поэзии я не говорю, потому что название «интернет-поэзия» — собирательное для нескольких явлений, совершенно разных по степени эстетической инновативности и литературного профессионализма.) Именно поэтому следует ожидать, что на новейшую поэзию обратят внимание элиты, которые в ситуации массовой общественной демобилизации как хлеба ищут того, что могло бы вызвать у людей настоящее доверие. Присуждение премии «Неформат» Вере Полозковой указывает не столько на конкретные качества поэзии Полозковой, сколько на то, что хотел бы видеть нынешний истеблишмент в ее творчестве и в современной поэзии вообще. Коллективный эскапизм. Окукливание маленького кружка или даже большой группы людей (возможно, знакомых только по интернету) в общем коконе уютных переживаний: стихи становятся «паролем» для этих переживаний, ничем больше. И чтобы все это воспринималось как альтернатива отвратительной действительности, в которой есть — ужас! кошмар! — деньги, политика, экономика, различие между разными общественными группами и хоть и туманные, но перспективы солидарности, которая может быть основана только на понимании этих различий и диалоге между носителями разных позиций. Иными словами, нужно, чтобы критическая рефлексия, которая интенсивно развивается именно в современной русской поэзии — и становится инструментом ее обновления, в равной мере художественного и социального, — не воспринималась как реальная альтернатива современному состоянию общества. Напрасно Юрий Мамлеев противопоставил агрессивную матерщину и эмоциональный эскапизм. Ничуть они друг другу не противоречат. Может быть невероятно брутальная и энергичная поэзия, которая вызывает смех и мгновенную эмоциональную разрядку, как остроумная неприличная частушка, но не более того. Пусть будет откровенно, жестко и смешно — но об известных частных проблемах. Шуточные стихи про публичные фигуры тоже годятся, потому что это сатира на лица, а не на нравы, как сказали бы в начале XIX века. Подозреваю, что Андрея Орлова пригласили в жюри «Неформата» примерно по тем же причинам, по которым дали премию Вере Полозковой. Такой тип востребованности совершенно не программирует дальнейшую судьбу этих поэтов — он говорит о том, чего от них ждут культурные элиты. Сейчас поэзию хотят сделать набором иррациональных, самодостаточных и возвышенных переживаний (эстетический феномен «возвышенного», согласно работам современных философов, может быть не только романтичным, но и брутальным, и даже шокирующим). Пусть в поэзии будет сколько угодно примет современности, брутальных или дискомфортных описаний страдания, но место ей может быть отведено только в частной, приватной жизни, в сфере «культурного досуга». Такое пожелание и даже требование к поэзии со стороны истеблишмента или его значительной части — очевидно, тенденция долговременная. Этого не нужно бояться, но это стоит понимать. Поэзия бывает разная — популистская и социопатическая, демократическая и герметичная, аналитическая и экстатичная... Все эти различия нуждаются в исследовании и обсуждении. Возможен и спор между представителями разных точек зрения. Но прежде такого спора нужно проговорить: различия в поэтических направлениях — это одно смысловое пространство, а пожелания к поэзии со стороны истеблишмента — ко всем нам, а не только к поэту N. — совсем другое. А если пожелание обращено ко всем нам и если многие с ним не согласны (подозреваю, что это так), то и осмысливать свою ситуацию в обществе (в стихах или в прозе) и воплощать результаты этого осмысления в стихах, в прозе, в повседневной жизни придется каждому — и, может быть, некоторым из нас вместе. http://www.openspace.ru/literature/events/details/8405/page1/ Кирилл Медведев. Интеллектуал – не привилегия Интервью: Алексей Цветков-младший Кирилл Медведев – признанный поэт и переводчик, неоднократно получавший литературные премии и лестные отзывы самых влиятельных критиков. Несколько лет назад он перестал публиковать свои новые стихи, создал Свободное марксистское издательство и стал участвовать в акциях леворадикалов. Специально для Рабкор.ру Алексей Цветков встретился с Кириллом Медведевым и задал ему несколько стратегически важных вопросов. Кирилл, ваша издательская деятельность – это тот случай, когда маргинальность неразличима с элитарностью. Вы делаете безупречно стильные маленькие книжки с продуманным макетом, шрифтами, цветовой гаммой, отличные переводы. Но одновременно эти артефакты, которые интересно держать в руках, весьма полезны как левым, так и интересующимся, политически функциональны. Какая задача изначально ставилась перед издательством и как она менялась в процессе? Часто можно слышать, что Свободное марксистское издательство – это проект одного человека. Вам удается всю работу делать самому? Кто еще и почему будет издан в ближайшее время? Устраивают ли вас продажи ваших книжек? В последнее время вам часто делают комплименты на сайте Openspace. Насколько вообще К прошлогодней годовщине событий 68-го вы издали стихотворение Пазолини, в котором он критикует «новых левых» как далеких от реальности детей «среднего класса» и вступается за полицию, плоть от плоти класса рабочего. На чьей все-таки вы лично стороне? Ваше издательство называется «марксистским». Что значит марксизм лично для вас сегодня? Зачем он вам? Главные мыслители, методологи, которые ориентируют вас в культурном и политическом пространстве? К каким реальным политическим группам вы близки и почему? Какие проблемы, по-вашему, стоят Вы не раз проводили литературные вечера солидарности с бастующими рабочими разных предприятий в московских книжных клубах, «Фаланстере» и «ОГИ». Кризис увеличивает число поводов для таких акций? Намерены ли вы устраивать их впредь, и если да, то какие ближайшие? Ваше понимание прямого действия? Я помню вашу индивидуальную акцию у театра Калягина против премьеры брехтовской пьесы, она закончилась дракой с охранником театра, получился такой «марксизм-индивидуализм»... Как вы относитесь к агрессивным, наступательным формам акционизма? Вот, например, группа «Война» устраивает панк-концерт в зале суда, проецирует ночью череп и кости на фасад Белого дома, заваривает двери в дорогих ресторанах, и вообще на них заведено уже несколько уголовных дел... Левые часто дискутируют об «автономии искусства». Насколько автор текста или художник должен быть ангажирован в социально-освободительные проекты, и какие формы эта ангажированность должна принимать сейчас? Вы признанный поэт и переводчик. Видите ли вы сейчас нечто новое и прогрессивное в нашей поэзии на уровне объединений, групп или отдельных фамилий? Еще недавно расклад был таков: поэзия, отвечающая более или менее традиционным ожиданиям читателя, стягивалась к альманаху «Арион» и толстым литературным журналам, а все инноваторские попытки, литературные эксперименты, имеющие целью изобрести новый язык и создать новую аудиторию, так или иначе связывались с деятельностью Дмитрия Кузьмина и его проектов – «Вавилон» и «Воздух». Сейчас появляются новые поэтические группы, например, вокруг питерского альманаха «Транслит», заявившего себя как сугубо левый. Как меняется поэтическая карта? В чем именно была суть ваших расхождений со средой «литературных либералов»? Все-таки вы Вы номинант премии Андрея Белого и лауреат премии Ильи Кормильцева, переводили Буковски, автор верлибров, издававшихся отдельной книжкой. В какой-то момент вдруг объявили своеобразную забастовку, точнее, взяли мораторий и надолго отказались от всяких авторских литературных публикаций. В чем главная причина столь радикального отказа от успеха и как долго он длился? Последней вашей поэтической публикацией, которую я знаю, был замечательный сборник с точными метафорами, вроде уподобления социалистической вселенной прозрачной фабрике, принципы работы которой видны всем, кто на ней занят. Пишете ли вы стихи сейчас, что вас вдохновляет и, если да, где их можно читать? Кто вам представляется самым прогрессивным из ныне действующих в литературе, кино, музыке? Чем, кстати, вы зарабатываете на жизнь? Источники финансирования издательства? Как семья относится к вашей деятельности? Закончите фразу: «Для интеллектуала самое главное сейчас … » Кирилл Медведев: «Противостояние происходит не только между журналами. Оно происходит на улице» Новая, постсоветская культурная элита оказалась чудовищно консервативной, с этим связан ее сегодняшний тупик. Это хорошо видно на примере той же «неподцензурной» поэзии, которая стала именно «правой», консервативной реакцией на советскую поэзию, несшую в себе хоть и глубоко коррумпированные и искаженные, но все же левые, радикально-демократические основания. С другой стороны, разнообразие и глубина подпольной поэтической традиции сталкивается с ограниченностью ее внутренних интерпретаций. Критики, органически связанные с неподцензурной культурой (а других нет), не могут воспринимать ее иначе как эстетическое сопротивление кучки интеллигентов душному обезличивающему воздействию плебейской cоветской власти. Но для меня, например, стихи Сатуновского «я верю только в труд, всё прочее – надстройка», его стихи про жизнь пролетариев, написанные в начале 60-х годов, со всеми их кошмарами, внешне похожими, например, на кошмары Игоря Холина, попадают в совершенно другую историю – в историю рабочего сопротивления в СССР, включающую расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962-м; в историю левого, марксистского диссидентства, которой еще только предстоит быть написанной. Нужно уходить и от вульгарного, элитистского, ушибленного постсоветского либерализма, и от национал-сталинистских мифов. Необходима новая оценка советской истории, русской революции, всей культуры, которую она породила, истории социализма XX века вообще. Это невозможно без марксизма, который связывает максимально абстрактные вещи с максимально конкретными: личное – с политическим, изысканную поэзию – с грубыми уличными выступлениями, глубокую критическую мысль – с обычным трудом в офисе или на производстве; который заставляет тебя осознать свою позицию не как выражение простого здравого смысла (уверен, что 99% современных литературных критиков вкратце определили бы свою позицию именно так) и не как выражение априори верного «экспертного мнения», а как порождение конкретных исторических условий. И тот риск, которому марксизм подвергает человека как теория и как практика, – риск сектантства, вульгарной «партийности», самодогматизации, – есть естественный риск активного познания. Все постмодернистские попытки избавиться от подобных соблазнов провалились по простой причине: мир по-прежнему состоит из тех самых противоречий, которые когда-то породили марксизм. Видеозапись интервью: http://tr-lit.livejournal.com/4485.html Дмитрий Голин. «Когда выходишь из клетки» (Парадокс революционной духовности): рецензия на книгу Антона Очирова "Ластики" АНТОН ОЧИРОВ. Ластики: Книга стихов.- М.:АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2008.- Серия "Поколение", вып.24. Хотя московский поэт Антон Очиров (1978 г.р. ) принадлежит поколению литераторов "Вавилонского" призыва, ни основные приемы его поэтики, ни "метасоциальная" проблематика его творчества напрямую не связаны с комплексом задач преодоления "негативной кармы" концептуализма - "реиндивидуализацией" и "ресакрализацией" (1) поэтического высказывания, свойственных для периода "Вавилона", прошедшего под знаком постконцептуализма. Оставлю пока в стороне вопрос об актуальности приставки "пост-" и о том, насколько успешно задачи по реабилитации поэтического речения осуществились в рамках постконцептуализма, одну из возможных тенденций развития которого сформулировал Д.Воденников в небольшом и, вроде бы, вполне случайном интервью, в духе reality show, включенном в корпус стихотворных текстов: - А что же тогда для Вас наслаждение? Точку зрения, кардинально противоположную мульти-медийной харизме и трансгрессии экстремального гламура, ненавязчиво постулированных будущим "королем поэтов" (интервью не без самоиронии озаглавлено "Первые ростки нового имперского сознания"), годом позже выразил поэт, имя которого также тесно связано с периодом непродолжительного влияния постконцептуализма и литературной активности вестника "Вавилон", - Кирилл Медведев: ...а литература предала читателя Что именно понимал Медведев, говоря о "взаимном предательстве" развернуто изложено в известном коммюнике 2003 года, в котором поэт отказывался от публичных выступлений и участия в литературных проектах, организуемых и финансируемых как государственными, так и культурными инстанциями, характеризуя актуальную литературную ситуацию следующим образом: "...окрепший книжный бизнес, кучка издателей, зачастую полуграмотных, издающие уже всё подряд, не разбирая, едва успевая налепить на книгу нужную бирку, использующие в коммерческих интересах самые беспринципные приемы и провокационные стратегии, заигрывающие с самыми чудовищными и отвратительными для меня идеологиями. Наглядное представление о том, сколь гремучую диалектическую смесь Все это, хотя и в очень схематичной форме, подводит к контексту, знаешь термин "вторая природа" - подумай что все человечество - как питательная среда когда ты выходишь из клетки, перестаешь быть клеткой Как справедливо отмечает в своей рецензии Данила Давыдов (8) делая, однако, акцент на "политизации" и ценностных аспектах, основным методом послания Очирова, эйдетически неотделимым от его цели и содержания, является "деавтоматизация сознания", то есть, эвристический трансценз (прыжок из текста), обращение к нелитературной реальности. Если оставить в стороне соблазнительные эзотерические параллели то, очевидно, следует, вспомнив Кривулина, соотнести подобную практику с реальностью "языковой ситуативной повседневности", пошедшей быть от обериутов и воспринимаемой "непорсредственно через призму онтологии", минуя промежуточные семиотические среды и, главное, - сферу культурного мифа, - что и составляло, по мысли Кривулина, релевантную черту московского авангарда (9). Тот же ход художественного развития виден и у Очирова: захваченность космосом и магической открытостью его явлений выступает естественным дополнением к бестиариям Олейникова и Заболоцкого; однако здесь "натурфилософская" и собственно эстетическая стадия быстро становится промежуточным звеном, а возможно, и катализатором "философии общего дела" – личной духовной практики. я завидую безупречности насекомых, внятности рептилий Тенденции функционально обнажить, очистить слово для месседжа (с ненамеренным, вроде бы, но вполне авангардистским захватом пограничной среды), докопаться до свободного от культурных стяжек универсального рычага коммуникации кажутся очевидными. Отсюда же - и достигающие декларативной ясности черты осмысленной культурной агрессии с логически естественным, хотя и не прямым, призывом - на баррикады культуромахии под знамя альтернативной субкультуры - какой-нибудь personality-action-poetry с неизбежным гражданским звучанием. Однако не стоит спешить с выводами: перед нами апология войны, но войны, в первую очередь, освободительной и духовной (с уместной оглядкой на Джармуша и Паланика), ценностные мотивации и генезис такой войны имеют отчетливые черты религиозного гуманизма. (С той особенностью, что это гуманизм не теоцентрического, а антропоцентрического характера, свойственный недеистическим традициям (восточный трансцендентализм), влияние которых до известной степени сказалось на мировосприятии многих субкультурных движений, начав вторжение в западную литературу на рубеже 19-20 столетий.) Таким образом, политика, как сама в себе не имеющая корня, уже не приоритетная воля к власти, а не более чем эхо узнавания некоего сверхценного гнозиса, истины о мире и человеке, однако столь ошеломляющего характера, что от этого могут "полететь на голову старые балки" парадигм и ценностных лестниц. То есть в том же, по сути, ключе космоцентрированной апокалиптики и рационально-эсхатологических утопий, что и у Заболоцкого, в натурфилософии которого трансцендентализм также хорошо узнаваем. кажется это уже было: это вырасшее человечество выглядит как пружина Апокалиптические черты лиро-эпических фантазий преображения природы у Берёт тебя Бог за шкирку, буравит тобою дырку. С точки зрения Д.Давыдова Очиров выступает закономерным, но вместе с тем и невольным наследником авангардного формализма, метода неумышленного "форсирорвания социальной рефлексии", так что неудобный политический пафос оказывается гармонично подключен к примату "бескорыстного искусства". Тогда как творческую мысль Очирова волнуют совсем не "круги, оставляемые на воде" (10) общественного сознания авангардным раздражителем, то есть не сами по себе репрезентативные и манифестарные аспекты (откуда, кстати, циклизация и сходство с Воденниковым), естественные при попытке "разгерметизировать" любой нетривиальный гнозис, не интересен ему и как таковой контент (или качество) "межличностного" месседжа. Действительная цель его изысканий - это некий трудно определимый пограничный эффект - когнитивная пульсация, эналакс, или внутренний переворот, парадоксальный сдвиг, который сам поэт называет "перемещение точки человечности". Здесь не грех прибегнуть к более широкому опыту самоопределения и интерактивным признаниям. В интервью, помещенном на Литкарте, Очиров говорит следующее: "Главное в стихах для меня — это их подлинность, или — хотя бы — попытка к ней пробиться. Не хочу подробно говорить, что я понимаю под этим словом, можно только сказать, что это очень тесно связано с познанием и непосредственной реальностью, и очень тесно завязано на время как таковое, время — это невероятно интересная категория, которая — и есть (песок, который высыпается, или стрелки, которые перемещаются), и — одновременно — нет, потому что для песчинки времени нет." Показательно обращение ко времени, попытка перенести знак из консервативной сферы пространства (соответствующей культуре и тексту) в непрерывно переходящий собственные пределы, как бы поедающий себя, поток времени (соответствующий истории и познанию), попытка перманентно неудачная, обреченная на "постоянное прояснение" (Д.Давыдов), регулярный сбой/повтор выхода (который как время - "и есть, и нет") в то, что у Кукулина названо "незнаковым пространством произведения" ( = "трансзнаковая реальность"), способность нитка в клубке ничего не знает На фоне трансцендентных, самоуничтожающихся черт эволюции этого универсализма, морфологические истоки которого могут быть и не быть где угодно: Фромм, Достоевский, Уитмен, - существенна не рецепция как таковая, а лишь температура субъективной переплавки, принципиально неотчуждаемый опыт, - ибо актом эволюционного трансцендентного Знаешь, это похоже на то, как будто Происходит это с такой же необходимостью (трансцендентного самоотрицания), с какой принципиально невербализуемый мистический опыт сгущается в социально очевидную, публичную и вполне (даже чересчур) "вербальную" этику. Собственным содержанием этого опыта является переживание избытка уязвимости и страдания того, что понимается как прекрасное (как в притче о детях в горящем доме, из "Лотосовой Сутры"), или - эстетической открытости всего живого, придающей природе красоты Причастность этой проблематике соединяет Очирова одной онтологической пуповиной с различными и концептуально не связанными между собой поэтами обостренно критического восприятия, такими как: Е.Фанайлова, Л.Горалик, А.Скидан, К.Медведев. Нельзя не отметить и связи с ближайшим прошлым - маргиналами субкультур и героями андеграунда, акционистами и поэтами личного действия - Е.Летовым, Р.Неумоевым, А.Витухновской. Отчасти также - Ф.Чистяковым и С.Белоусовым (Олди); менее очевидна связь с Горенко и Анашевичем... Всех этих во многом несопоставимых поэтов объединяет направленное использование определенного опыта стигматизации, наличие дополнительной оси, наделяющей любую поэтику трудно определимым внутренним сдвигом, - не вполне причастной сфере смысла возможностью экзистенциальной солидарности (12). самая человечная библейская история, вот так подумаешь: а все прочее - приросло. Выше я говорил, что Очиров не настаивает на ценности самого по себе содержания своего поэтического донесения; тем не менее то, что передается, является своего рода программой саморазвертки высоко субъективного и ценного переживания, отнюдь не тривиального, но и не запредельного свойства. И тем же способом, каким конструируется формально-содержательная сторона этого донесения, поэт пытается оградить его от По сути, эта книга - эксперимент возведения моста от обнаженного высказывания к обнаженному сознанию, и, как мне кажется, эксперимент по большому счету вполне удачный. -------------------------------------------------------- Павел Арсеньев. Некроромантизм на грани фантазма. [Рец. на книгу Аллы Горбуновой «Первая любовь, мать Ада»] В стихах Аллы Горбуновой с достаточной очевидностью проявляется оригинальная эксзистенциальная среда, исполненная приглушенного философского освещения и обильного при(го)родного трепета. Культивируемая (то ли обороняемая, то ли акцентируемая) невинность сочетается с игривым фантазматическим проектированием неизбежных последствий наливания плода соком и отрыва от черенка/пуповины, соединяющего/ей его с гарантом чистоты, чем-то «совершенным, шарообразным, бесполым» / "Тошно и омерзительно видеть" /. Вообще плод пренатальный или фруктовый (особенно яблоко, так здесь напрашивающееся) вполне регулярный мотив в стихах Аллы, настаиваемый сразу в целом ряду стихотворений: Спит малое дитя из мякоти и влаги, Ало яблочко червлено Расцветали вишни у Господа Вишну, В этом универсуме созревание смерти подобно. Если человек обретает жизнь именно посредством родов, то вегетативная идентификация склоняет скорее к версии рождения как «начала конца» - с момента потери связи с древом жизни. Избегая типичного человеческого (слишком человеческого) жанра портрета художника в юности, мы сразу попадаем в регистр натюрморта или пейзажа смерти. Телесность человека, как правило, крайне невзрачный агент в окружающем пантеистическом ландшафте, но притом в него намертво вобранный. Алла просто одержима жизнью почвы и растительного/ животного мира, она говорит из них, скорее даже урчит или щебечет, когда как. «Звери хоронят охотника» / одноименное стиховторение /, и тогда начинается речь. Способностью говорить может быть наделен только «правый бок» или «левая грудь», интегрированные в экосистему и исторгнутые предварительно из системы социальной (в силу, надо полагать, глухоты и присущих ей предрассудков). Кости, земля, трава Милый, так страшно: кости, земля, трава, Тело гниёт в земле, превращается в золото ртуть, Стынет ноябрь, в земле усмехается нижний бог, На пустыре кости, трава, целлофан, Знаю, пребудут кости, земля, трава, смотрит из-под корней на тебя моя правая грудь, Но до такой эко-отрешенности, уже запланированной и регулярно наплывающей, поэта порой охватывает то, что можно было бы назвать страстью или волей к поколению. Уж если и стоит шевелить – еще не атрофированным – пальцем, то только в унисон с «братом (иль сестрой)». И здесь интонация становится невероятно пронзительной, приближающейся к гражданской. Порой Горбунова допевается и до «патриотических маршей», но они произрастают (опять же) только из чувства некоей солидарности на расстоянии. Так издалека приветственно машут сады, неспособные все же двинуться навстречу – у каждого слишком глубоко пущены корни (индивидуализма?). Я знаю, новое придёт, Твоя-моя страна в цвету Твоя-мою не понимат, Нежелание играть во взрослые игры в лучших романтических традициях экологического или пуэлирического эскапизма выражается во взятой – высочайшей – ноте лексической невинности, только более оттеняемой нарочитыми вкраплениями морфологических эксцессов и брутального просторечия современности. Жажда первой любви, неутолимая в ситуации реификации человеческих связей, приводит прямиком к некроромантической динамике, в лоно матери Ада. Александр Скидан. Тезисы к политизации искусства Кризис института представительской демократии, давно уже подтачивающий западные станы, докатился и до России. На место политики в классическом смысле приходит менеджмент и маркетинг, различные технологии манипуляции (маркером и одновременно агентом этой тенденции выступает заимствованный у социологии термин “электорат”). Публичная сфера коррумпируется и сплющивается на глазах. Идеология рынка подчиняет себе все, в том числе культурное производство. Нас убеждают довольствоваться частной сферой, частным предпринимательством (в этом “довольствоваться” пресловутая автономия искусства займет свое почетное место). Другой кризис, миметический (так следует подражать Западу или нет? если да, то в чем и до какой степени? как далеко должна зайти модернизация? и вообще: кто мы?), обнажился на волне массовых антизападных настроений, вызванных натовскими бомбежками Белграда и приведших в итоге к смене кабинета и российской политики в целом. В глазах политтехнологов то был конец эпохи (апологии) постмодернизма, разочарование в модели “открытого общества” и всей политике “прав человека”. Одним из результатов переоценки “западных ценностей” явился отказ от создания гражданского общества и плюрализма в общественной сфере в пользу централизованной иерархической модели власти, жестко вытесняющей любое инакомыслие на политическую обочину. Параллельно наблюдается возврат к слегка видоизмененной великодержавной риторике по формуле “православие плюс самодержавие плюс народность”, идеализируется имперское дореволюционное прошлое (Сокуров с “Русским ковчегом” протягивает здесь руку Акунину), все устали от реформ и хотят стабильности, что применительно к искусству и литературе означает: никакого модернизма, никаких потрясений; авангард? – скомпрометировал себя связью с волей к революционному переустройству (достаточно пройтись по залам открывшейся экспозиции “Русский авангард” в Русском Музее, чтобы увидеть, как стыдливо заметаются следы этой связи). Продвинутые книгоиздатели идут в ногу с глобализацией – мыслят “проектами”. “Проект” есть современный способ объединить коммерческие и творческие интересы, придать изделию товарный вид, или “формат”; “проект” – это разом и идеологическая упаковка, и промышленная линия, призванная оперативно формировать и удовлетворять потребительский спрос. Подобный подход уже восторжествовал на телевидении, в бесконечных сериалах и круглосуточном MTV. Новостные программы также начинают воспроизводить эстетику клипа и мыльной оперы. Сегодняшняя “форматная” продукция – это функциональная, а не изящная словесность. Она инсталлирует и обслуживает социальность. Чемпион по функциональной литературе, безусловно, Пелевин; его успех узаконил демпинг, сделал демпинговую политику в сфере литературного вкуса легитимной. “Все возрастающая пролетаризация современного человека и все возрастающая организация масс представляют собой две стороны одного и того же процесса. Фашизм пытается организовать возникающие пролетаризованные массы, не затрагивая имущественных отношений, к устранению которых они стремятся. Он видит свой шанс в том, чтобы дать массам возможность выразиться, но ни в коем случае не реализовать свои права” (Вальтер Беньямин, “Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости”). Иными словами, существуют экономические, политические противоречия, интересы различных социальных групп, но вместо того, чтобы их разрешать или отстаивать, мы их канализируем – в Gesamtkunstwerk, в зрелище. Это конституирующий принцип фашизоидного искусства. В определенной точке – посредством новых технологий и электронных масс-медиа – оно смыкается со зрелищем в понимании Ги Дебора. Модель политизированного искусства – театр Брехта. То, что на уровне теории проявляется как скачок, качественный переход, в театре Брехта выступает как остранение, когда эстетическая иллюзия прерывается с помощью цезуры или синкопы, вводящей момент рефлексии и осуществляющей приостановку, зависание диалектики. Такая эстетика, восходящая к “обнажению приема”, к “остранению” русских формалистов, несет в себе несколько функций: субъект втягивается посредством цезуры в движение рефлексии, и одновременно сама эстетическая иллюзия, ее “природа” оказывается под вопросом. Так аутореференциальность искусства получает свое адекватное воплощение. В известном смысле это высшая, непревзойденная точка эстетической рефлексии, поскольку она не только подразумевает саморефлексию, но и тематизирует аутореференциальную природу искусства. Все радикальные опыты в визуальном искусстве, например Годар, исходили из опыта прерывания, разрушения эстетической иллюзии. Не дать отвердеть этой иллюзии в тотальность, не дать возможность эстетике захватить мир в репрезентации. Как только мир схватывается намертво в репрезентации, тотчас возникает Gesamtkunstwerk – тоталитарный проект, в котором форма раздавливает материал и дематериализуется сама социальная материя. Социальность, с ее антагонизмами и борьбой интересов, оказывается “снятой”, “сублимированной”. Политизированное искусство, таким образом, не следует путать с агитацией или пропагандой; это искусство, которое через цезуру, остранение, саморефлексию, фрагментарность, дробление нарратива позволяет обнаружить асемантические зазоры, складки смысла, еще не захваченные идеологией. Искусство, втягивающее зрителя и читателя в процесс сотворчества-становления и тем самым подводящее к пониманию того, что он связан с телами и сознаниями других. Мы выросли в ситуации, когда актуальным было ускользнуть из-под власти коллективных тел, избежать обезличивания. Но сегодня развертка обезличивания другая, она проходит через конкретизацию всего, через товарообмен, потребление образов, террор масс-медиа и принудительное замыкание в частной сфере (как в гетто). В условиях нашествия товара с его фетишизмом и теологическими ухищрениями искусство также подвергается овеществлению, превращаясь в машину, производящую готовые культурные смыслы, обслуживающие status quo. Готовые культурные смыслы необходимо разрушать, подчеркивая собственную разъятость, нецелостность. Отдельный вопрос: Каким образом политизировать собственную нецелостность? Ибо мы – нецелостные существа, мы изначально колонизированы другими, их речью. Но и обращены к другим. Наша проблема – это фрустрированность советским коллективизмом. Мы с детства несем в себе пафос неприятия коллективности, но вместе с коллективностью упраздняем солидарность, сострадание, справедливость, возможность сообщества. Взять, например, “Безумного Пьеро”, или “Weekend”, или “Веселую науку” Годара, фильм о мае 68 года. Два “персонажа”, мужчина и женщина, обсуждают актуальные события на фоне революционных лозунгов, всплывают портреты Сталина, Ленина, цитаты из “Грамматологии” Деррида, из работ Фуко, и все пронизано странными, непонятными для зрителя, эротическими флюидами. Видеоряд работает как синкопа, цезура: коллективные уличные действия и тут же одинокое обнаженное тело или его фрагмент. Это брехтовский, беньяминовский разрыв в эстетической ткани, разрыв, который обращает нас к реальности и через реальность снова к искусству, потому что мы задаемся вопросом: а что такое искусство, где проходят границы интимного и публичного? Диспозиция капитализма, когда все конвертируется во все, все подвергается замещению, активизирует тоску по чему-то абсолютному, что не может быть обращено в товар. На этой тоске играют все тоталитарные структуры, от религиозных сект до политических экстремистов, они спускают этот абсолют сверху. Роль интеллектуала, художника заключается в деконструкции этих спускаемых сверху деспотических дискурсов, претендующих не репрезентацию абсолюта, но вместе с тем – в поиске точек, где измерение трансцендентного, или священного, разрывает горизонтальную рядоположенность ценностей, указывая в направлении того, что не вписывается в ограниченную (капиталистическую) экономику. – Подобно эротизму, смеху, бесцельной трате или жертвоприношению Батая, которые он рассматривает как фундаментальные, неустранимые потребности человека. |
в магазине «Порядок слов»
(наб. Фонтанки, 15), в Москве: в Перми: |
|||
|
| альманах | авторы | kraft-серия | мероприятия | видео | пре-принт | экспертиза | блог | написать | english |
DesignStudio *Shellfish* - Russia © 2006 |