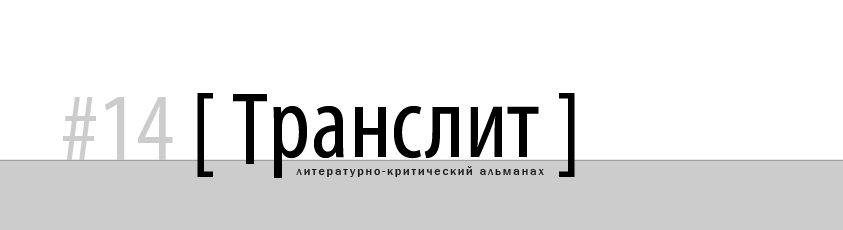| |
Рубрика Экспертиза представляет собой дискуссионное поле, где авторам, которых мы считаем экспертами |
Последние обновления блога "Транслит": |
|
Иван Соколов / «рыв мира» через «рубь меня» Новое Литературное Обозрение # 124 // Рец. на Суслова Е. Свод масштаба. — СПб.: Альманах «Транслит»; Свободное марксистское издательство, 2013. — 67 с. (серия Kraft). Иван Соколов. «рыв мира» через «рубь меня» Душный, жирный мрак. Старик с измученным лицом, окутывающее его алое и кремовое, свободное ниспадение складок. В щепоти нежно — тонкая белая черта, рассекающая тьму фона и алое ткани: пера лишь профиль. Отрок, парящий над; взвихрения белого (где тень — серая тряпка), вечно разворачиваемые стремления, взятые в нетугой узел у сердца. Электризуют руки: рассредоточенное троеперстие, божественная искра, вожделение, нарциссизм. На эту тактильную вертикаль нанизаны взгляды, звуки, потоки белого пойесиса и крылья ночи. «Апостол Матфей с ангелом» (второй вариант), 1602 г., Караваджо. Трепет, экстатическое, модальность откровения свойственны и текстам Евгении Сусловой, однако представляется, что ее «веретено деления» (с. 47), «ось теплоты» (с. 23), «верть» (там же), «коловращенье» (с. 32), «спиновая сеть» (с. 55), в которой слышится и позвоночник (spine), и вращение (spinning), имеют и другое назначение, лучше всего заметное в «обводе закона» (с. 30). Действительно, вещи здесь запускаются в оборот, волнение всегда, как и у Караваджо, структурировано вокруг четкой оси, Суслова прекрасно владеет композиционной драматургией: В перечне драмы На теплом месте горят Здесь двойное подчеркивание кульминации, экзистенциальный характер образа, символика центра («живот»), описание смерти — в ее стихах всегда видишь однофигурную композицию, события расставлены в единственно возможном отношении к точке «я» (ср.: «...ты перед всем насквозь стоишь, проявленный кроварь» (с. 52)). В этом стихотворении не совершается вращения, кроме тавтологического разворота. Сначала «животом рвет» (обычно рвет ртом, т.е. через рот, здесь же — через живот, через центр тела, но к тому же и «животом», т.е. живот (желудок, кишечник) — содержание этого извержения), а потом этот дважды разобранный живот оказывается наполнен — но уже костьми. В остальных же случаях, где мотив вращения проявлен более четко, совершается в буквальном смысле «обвод закона». Не только закона как ценностного стереотипа (рвет ртом, а не животом, как в стихотворении), но и закона в более глобальном смысле — закона вещей. «Обводя» закон, обходя его в прямом и переносном смысле, Суслова запускает цепочку разрушений, призванных расщепить даже мельчайшие частицы Бытия. «Часть целого» (с. 8), «картируют миг» (с. 10), «откалывает от себя», «разложение ветвей на язык», «скорость в двух точках лба» (там же), «располагаясь между располагая и располагаясь» (с. 11), «смотрим на наши раны как в окошко операционной», «разобьются», «в коренном переносе» (с. 13), «психическое сеткование» (с. 14), «...из живого выбрасывается, но проволока // все равно торчит // из-лба» (с. 15), «дробится», «расщепление. навыка» (с. 17), «я надрываю день», «о надрыве», «тепло ее / бессоставно», «логическое на краю» (там же) — здесь перечислены только примеры из самого начала книги. Концентрация их, как и функция, практически не изменяется на всем протяжении сборника: происходит чудовищный «рыв мира» (там же), расщепление всего. Можно, впрочем, выделить разные стороны этого процесса (хотя зачастую они слиты воедино). Во-первых, это уничтожение в прямом смысле, стихи перенасыщены фигурами насилия, везде «расстрел оврага» (с. 9), т.е. всего пространства, как и (любого) человека, в нем находящегося («место становится своим поражением», с. 10), но также и «надрыв дня» (с. 17), т.е. уничтожение времени, — и насилие над самим субъектом («пуля» со с. 9 и 19): «ты простерт» (с. 22), изничтожен. А во-вторых, «диссоциация чувственного опыта», в прямом смысле: «я» стихотворений постоянно занимается концептуализацией происходящего, анализируя и разделяя все, и эта процедура всегда осознается им как глубинное основание поэтического акта («разложение ветвей на язык», с. 10). В этом изначальная трагедия этих текстов: творческое, креационное, синтезирующее мыслится и переживается как аналитическое, расчленяющее. Поэтический акт есть убийство. Симптоматично второе стихотворение книги: И пуля не, но обволакивает: При затылке на скорость узусть тени: На добавление идет расстрел оврага — и — Натурщица ума Янтарное слово в сменяющихся оправах языка урок возвышает Основообразующий сценарий этого текста — преступление, насилие по отношению к невинным жертвам («пуля», «огонь», «затылок», «скорость», «достигает», «расстрел оврага»). Однако в текст вводится еще один мотив — великий дар творчества («огонь», «натурщица», «янтарное слово в. оправах», «преподает», «языка урок возвышает»), которое нисходит на художника от Бога (курсивное «свет за свет» — это ведь почти «Свет от Света» Никео-Константинопольского Символа веры). Язык — божественный дар — облагораживает реальность, возвышая художника, однако фоном все равно при этом остается расстрел. Эти два потока сталкиваются сильнее всего в моменте «словесный насмерть», где видно, что «свет за свет», который является сутью божественного слова («под- заветный»: сакральный), наталкивается на моментальную гибель, а в конце — «на смех». Спускаемое от Бога вдохновение оказывается мучительной фигурой массового насилия (красноречивый свидетель — приставка в слове «подзаветный»: находящийся в подчинении), функционирующей «в темноте» (в то время как заявлено, что ее суть — обмен (на что указывает предлог «за») светом), и все возвышение травестируется. Как почти везде у Е. Сусловой, переживание поэтического небезразлично к восприятию телесного. «С телом любой бы смог» — телесное как агент прекрасного не является больше источником вдохновения, с какими «оправами» к нему ни подходи, «натурщица ума / держится целиком одна»: художник («ум») ее покинул, его интересует пространство, описать которое не представляется по-настоящему возможным («с телом любой бы смог, / но с пространством»), хотя попытка такая имеет место: «расстрел оврага» — это ведь расстрел хронотопа всего стихотворения, а расстрел, как уже было выяснено, здесь то же, что поэтический акт. Но и он неудачен: язык остается во тьме, в «узусти [узком, недостаточном узусе] тени», «пуля» вдохновения дарует лишь «ожог» (обжечься на чем-то: получить урок, разочароваться из-за неудачи), а «наличное» («натурщица», объект изображения) — «не достигает» ума художника. Кстати, вырисовывается много параллелей с конфликтом вышеописанного полотна Караваджо: схожее ощущение проблематичности вдохновения, ужас художника и бессилие языка (тонкое белоснежное перо на картине, «свет за свет» в темноте стихотворения). Одним из центральных текстов книги, бесспорно, является «Зима с прощанием» (с. 23-27), в котором не только сконцентрированы разъятие телесного, динамика вращения-разрушения и метарефлексия поэтического, но и наглядно видна сама специфика работы Сусловой. Как и большинство наиболее «интересных», «авангардных» поэтик сегодня, «Свод масштаба» использует скорее маргинальный, чем основной механизм моделирования лирического. Наблюдается уход от текстов с более связной субъективностью за счет попытки заглушить семиотическую отнесенность текста: читателю достаточно сложно выстроить восприятие стихотворения и среагировать на его базовую природу, какой, например, в предыдущем тексте была ситуация «расстрел невинных». Эта база никуда, конечно, не исчезает, но она максимально выдавливается из стихотворения, становится полой, выхолощенной. В «Зиме с прощанием» много таких полых фигур, которые очень мало соотносятся с тем, что непосредственно ощущается как напряжение стихотворения: «равновесие», «ты. мудр», «теплоты твоей», «пешеход», «ты протяни его», «процедура двух», «и ты стоишь у двери», «привязанность», «в грудине тебя» — т.е. в груди тебя, «.тебя — …меня», «опора нашего» (с. 23), «что мне делать, мой друг?», «тепло», «в материнском», «твое лицо», «и вещи для того были скреплены человеком» (с. 24) — и т.д. Речь идет, таким образом, об интимном разговоре между «я» и «ты», где «я», видимо, — женщина, возможно, будущая мать, а «ты» — ее супруг/любовник. Тем не менее уже на уровне этой рамочной структуры, пусть она и ощущается наносной при чтении, создается некое неравновесие: ты — «мой друг», но при этом — «пешеход», т.е. кто-то очень далекий от меня, «ты стоишь у двери» — и между нами ничего не происходит, все существует лишь «нас с тобой около» (с. 27). Предполагаемая (и ненаходимая) «теплота» межчеловеческих отношений разрушается зимой из заголовка стихотворения, которая все время о себе напоминает: «этой зимой», «кровинки. врассыпную» (с. 23), — в том числе и от мороза, «не мякоть земли, / а легких костей укрылок», «затворец вод» (с. 24) — вода замерзла и стала льдом, «снег идет, его живу затылком — / у памяти его скорость перенимаю», «много разрушенных городов», «языков много сухих и мертвых», «глухого года» (с. 26), да и, наверно, «воздух большой» (с. 25) — тоже скорее ощущение зимнее, опустошенное, чувство объема, с которым не справиться. К тому же как бы солнце ни светило, во втором фрагменте несколько раз настойчиво повторяется «тмение» (с. 24): т.е. процесс сотворения темноты, за-тмение (вспоминание как «тмение», но и поэтическое говорение тоже как «тмение» — повтор мотива из текста «И пуля не.»). В этой зиме, впрочем, есть дерево — сначала это «тополь» (с. 23), а потом «каштан» (с. 24), и это дерево вроде как освещается солнцем, источником тепла: «остро-золотящийся» (с. 23), «горит природа», «льется-бьется, возделывая себя, куст», «он горел сиянием дальним» (с. 24), «до золотящейся нити, / протянутой сквозь воздух большой» (с. 25), — но это солнце зимнее, настоящего тепла оно не дает, это холодный свет: «золотом тусклым», «с той стороны светофора песня горит, / ограничения делая светам» (с. 26) — свет здесь вообще ограничен. А странный тополь-каштан и вовсе — то райское древо, потерявшее невинность: «крутит и выкручивает ветвь в раю» (с. 23), — то Неопалимая Купина: «льется- бьется, возделывая себя, куст», но, в отличие от библейского образа, опять лишенная откровения, показывающая не Бога, а «отражение и твое лицо», и вызывающая ужасное ощущение «остроты обоих» — при том «на едва ощутимом разлете» (с. 24). Дерево называется здесь «исчадьем руки и ключицы»: важна связь с телесным, но и оценочность. «Он стражник, именнящий голод, сложный детства сход» (там же), — никакой радости райское дерево, образ семейного союза, освещенное безжизненным солнцем, не приносит: «весь день разбился в дерево» (с. 23). Здесь снова важно отметить диссоциацию хронотопа (ср. почти шекспировское «час из груди соседа выбит» на с. 24), как и строгое ощущение оси, единичности, центральности переживания, его идеальной выстроенности и остроты — очень караваджиевское переживание. Есть только одна точка («дерево»), о которую разбивается день и в которой все и происходит; это порождает ощущение «замкнутости тел» (с. 25), «хрупкости», пространство тоже начинает сворачиваться под действием этих сил: «и ты стоишь у двери верть вращая» (с. 23). Весь хронотоп здесь собран в слове «верть», и, благодаря тавтологическому «вращая», при этой крайней сжатости рождается центростремительная динамика. В итоге, субъект замирает в этом центре, не в силах собрать переживание воедино: «голос сходится в точку, куда мы теплом приносимы» (с. 25), — это «тепло», хоть и есть, окончательно ничего не дает: Твоя и моя кровь вертится так, Или в самом конце стихотворения (с. 27) то же самое: Ощущение все время вращается вокруг «кокона интенсивности» (с. 26), вокруг «мне оттуда тебя не выдернуть и туда не приникнуть» (там же), т.е. вокруг «прощания». Означенное вращение не только запускает разрушительные маховики и стягивает напряжение в спрессованный центр, но и становится особым способом увидеть тело. У Сусловой очень часто возникает трагический опыт разделения (и соположения) — «на едва ощутимом разлете» (с. 24) — телесного и умственного (как тело «натурщицы ума» из второго стихотворения или «суставы сознанья» на с. 23), иногда субъект застывает в мучительной неопределенности: тело или ум? Слово «душекостник» (там же), относящееся здесь к «ты», хороший пример такого слитка — но сразу же встает отрицательный полюс, из всего тела взята именно кость, его мертвая часть, «душекостник» вообще звучит достаточно пейоративно, ругательно. Эта диссоциация, связанная с полюсом «ты», встречается и дальше: «как полчела у мысли на боку» (там же) — подчиненность тела мысли, метонимически с ним связанной. Контраст между «ты» и «я» выражен в тех же категориях: «Кровинки врассыпную / в грудине оголтелого тебя — и рубь меня» (там же), — у «тебя» — грудь, «грудина», телесное, а «я» — вся «рубь», не до конца определенное рассечение, скорее плотское, но, возможно, и душевное. Ближе к концу переживание конкретизируется: Только тупая замкнутость тел, Или еще: «душа расщепляется в точке сердечной опоры» (с. 27). Стоит добавить к этому описанию телесного еще один момент из базового сценария «ты стоишь у двери, что мне делать?»: на улице едет грузовик. Это дополнительный отчуждающий элемент, но важно, что он напрямую здесь соединяется с переживанием телесного, тело (и «мое», и «твое») становится тяжелым стуком, ощущением перегрузки: Тело — это там за окном грузовик проезжает Наконец, оптика этого текста, конечно, сильно сфокусирована на словесном, на коммуникации, на говорении «в» и говорении «к»: все отношение между «я» и «ты» выстроено на словах (хронотоп также есть слово: «Может, это не дом, а слово?» (с. 26)). С помощью слов «я» пытается решить проблему, но и они не помогают: «слово проходное» (с. 23), «вестью слоится» (с. 24), «словом, не становящимся родным хоть кому-нибудь» (с. 25), — причем «среди [этих слов] и мы» (с. 26), «потому что эту песню пропускаем через хилое тело свое» (там же), — и тогда вербальное включается в цепочку разрушительных, даже местами проклинательных императивов этого стихотворения: «в это время разбейся с именем насмерть, / уводи его от другого имени, / прими перемену как смерть» (с. 25), — а с другой стороны, невозможность овладеть стихией слова (т.е. основой субъективности) приводит к расщеплению «я»: «голос, огибая меня, / голову мою поет» (с. 26). Получается, что, стараясь максимально избежать связи с устойчивым эстетическим суждением, уходя от рамочной структуры «ты стоишь у двери, что мне делать?», автор моделирует куда более конкретное, точное переживание. Еще один из механизмов этого процесса — перенос внимания, восприятия смысла с морфологии и синтаксиса на непосредственно корневые значения слов, отсюда и «рубь», и «верть», и «тмение», и частое нарушение валентности глаголов («и сухожилий парное окно соизмеряет», с. 24), и запрещенное использование глагола окончания действия в императиве с непредельным глаголом, причем еще и с наречием «вдруг»: «Прекрати вдруг сидеть» (с. 25), — и т.д. Перенос с внешнего (рамочного) на внутреннее (корневое) вообще характерен для «Свода масштаба». Вместе с книгой Н. Сафонова «Узлы» (2011) «Свод масштаба» представляет отдельную линию в серии «Kraft», где политическое понимается не как внешний жест, но как внутренняя работа субъекта высказывания. Однако если у Сафонова эта «подрывная» работа ведется в области визуального и жанрового, то Суслова «перераспределяет» телесное. Сложно — и неизвестно, насколько имеет смысл, — говорить о генезисе такой поэтики. Работа с грамматическими категориями здесь, видимо, наследует обэриутам, а установка на формирование смысла через корневые значения, а не морфолого-синтаксические связи — американской language school. Вместе с тем, иногда эта поэтика достаточно калейдоскопична, например, уже упомянутые выхолощенные формулы вроде «Что мне делать, мой друг?» не могут не отсылать к какому-то квазиклассическому тексту, вроде стихотворения XIX века, или Р.-М. Рильке, или Б. Пастернака, или даже А. Тарковского. Да и не от Пастернака ли этот часто возникающий мотив «стояний в дверном проеме» и вообще болезненное переживание дверного проема как хронотопа? Цикл «Коренные происшествия» (с. 44-46) очень близок текстам сюрреалистов и экспрессионистов с их отчужденным вниманием к Событию, расстроенными социальными сценариями и, конечно, сфокусированности на войне как важном хронотопе. Впрочем, во втором тексте цикла бесхозная, неподчиняемая «красная телега» — явная отсылка к известнейшему стихотворению У. К. Уильямса «The Red Wheelbarrow (so much depends.)», а «настала пора» в конце звучит то ли в духе Р.-М. Рильке (Herr: es ist Zeit...), то ли — более вероятно — П. Целана (Es ist Zeit, dafi man weifi), влияние которого вообще сильно чувствуется в книге. В более непосредственном контексте по отношению к стихотворениям Сусловой стоят тексты А. Глазовой, особенно ранние: их роднят лексические средства и внезапность, с которой они используются. Местами переживание телесного у Сусловой чем-то напоминает оптику М. Степановой, только опрокинутую и расчлененную. Тексты Сусловой действительно «обводят закон», совершая «рыв мира». В каждом тексте последовательно разлагаются, расчленяются время, пространство, субъект, телесное, чувственное, словесное, в стихотворениях очень много крови, ран, насильственных телесных повреждений. Оргиастическое, экстатическое, неизменно присутствующие в каждом тексте, рождают ощущение творящегося на глазах читателя ритуала — жертвоприношения, но не совсем искупительного и понятого скорее вербально. Западноевропейская логика дает сбой, наталкиваясь на мощные пласты индуистской традиции. Речь также и не совсем об умирающем/воскресающем боге растительности (хотя образы зимней, высохшей природы из «Зимы с прощанием» вполне соотносятся с этой парадигмой). Весь ритуал организуется через мотив «вращения» (переворачивания, трансформации). Жертва, понятая здесь как сакральный, огненосный гироскоп, разрушающий и расчленяющий все и вся, встраивается при этом в своеобразный созидательный проект, начинает мерцать в пред-воссозданности. Удивительно, но проект этот во многом очень модернистский, здесь просматривается четкая конструкция. Существующая модель реальности не вызывает у субъекта ничего, кроме отторжения («и вещи для того скреплены человеком, / чтобы формой своею внутренней / его отвергать», — с. 24), поэтому ее необходимо разъять на мельчайшие единицы и затем уничтожить даже их, погибнув вместе с ними, — но в надежде, что из этих раскрошенных крупиц сам собой начнет воздвигаться новый, цельный, полный мир, который можно объять во всей его широте, мир, которому будет имя, мир, гармонично соединяющий телесное и духовное, где движение будет созидательным, а задержка во времени не будет носить облика тусклой смерти («я насмерть тебя сотворю, а затем полюблю», с. 53). Видимо, в этих целях и используется такая неожиданно привычная просодия: синтаксис расшатывается, но восприятие структурируется метрически. И наоборот, те стихотворения, где Суслова отходит от регулярной метрики, становятся более связными синтаксически и лексически. Книга Сусловой — это сакральный проект по пересборке, по конструированию (или рождению) Нового Адама. Наиболее важно то, что эта «пересборка» происходит, прежде всего, не на метафизическом или этическом, а на семантическом уровне, сам акт написания поэтического текста приравнивается к акту насилия. Безусловно, автор не пытается заявлять, что перестройка реальности закончена успешно. Е. Суслова помещает субъекта лишь в состояние готовности к пересборке, в дрожание между не-Бытием и пред-Бытием: «Тело и направление собраны вместе, / сольются — / их только тронь» (с. 27). Субъект мерцает, одновременно раз- и недовоплощенный, тактильное восприятие переживается как самосжигающее томление. О это «только тронь» — «Сотворения Адама» Микеланджело (ок. 1511 г.) и второго варианта «Апостола Матфея с ангелом» Караваджо. Новое Литературное Обозрение # 115 // Рец. на Сафонов Н. Узлы. — СПб.: Kraft: Книжная серия альманаха «Транслит» и СвобМарксИзд, 2011). Сергей Огурцов Говорить о поэзии как именно (и только) о поэзии означает ограничивать ее историческое развитие миром, которому до сих пор важно видовое деление искусств, где текст существует отдельно от воспринимающего субъекта, общество не мыслится как коммуникативная система, а значит, не возникает необходимости анализа пересечений искусства и повседневности, языка и власти, политики и техники. Поэзия остается фактически без теории: литературная палеонтология не способна и не берется объяснить, каковы задачи и методы работы современной поэзии; в результате остается непонятым место поэзии в культуре, ее связь с другими искусствами и науками. Поэтому критическая мысль обязана сегодня рассматривать свой предмет, поэзию, как искусство, а свои тексты — как часть art theory. Книга Никиты Сафонова замечательна уже тем, что дает возможность именно такого подхода. Тексты «Узлов» сформированы не как поэтические артефакты, законы их построения не специфичны для поэзии. Можно представить, как при ином стечении обстоятельств эти стихотворения оказались бы скульптурой или фотографией, а может, и видео — сопричастность единому когнитивному пространству, миру идей, и объединяет сегодня искусство вне видовых особенностей. И действительно, автор работает и в других медиа, а выпустившие книгу издательства известны своей теоретико-политической литературой. Конечно, избранный медиум, текст, накладывает определенную специфику на работу художника, но круг проблем и методы не являются в данном случае поэтикоцентричными. Именно это позволяет назвать тексты Сафонова современными и говорить о поэзии как об искусстве. М. п. 29. 01:18:47 Вне зависимости от обстоятельств она является частью картины Если нет — картина несвязна и представляет собой перенос дыхания, бьющегося о землю, на исходящую от иссушения «реку 5» Возможно, необходимо добавить требование не фиксировать этот момент, оставлять его времени — тому, что определяет эту случайность Не заполнять графы таблицы законченных сцен, чтобы не использовать как подтверждение памяти, «заключать наличие в скобки». (Из цикла «Сцены», с. 9) НЕЛОКАЛЬНЫЕ ОПЫТНЫЕ МОДЕЛИ: ЗНАК, ВЗГЛЯД, СИТУАЦИЯ Сталкиваясь с произведением искусства, можно размышлять о том, что мы видим, кто автор и как это сделано. В этом режиме видимости читателю предзаданы существование «поэзии», личности за именем автора и формальные особенности текста; критика рассуждает о видовой специфике «поэтического», о пересечениях частных мыслей и биографии, о бесконечных деталях структурной организации языка конкретного текста и автора. Но можно посмотреть на произведение иначе: что оно значит, кто его видит и как произведение работает; знак, взгляд, ситуация — формы взаимодействия среды и наблюдателя через видимое. Так искусство сегодня позволяет увидеть в предмете мир, в образе — понятие, в себе — другого. Произведение, в данном случае текст, предстает своеобразной моделью, связывающей мыслящую среду и действующего субъекта. Модель — всегда частичная картина мира, способная во взаимодействии с наблюдателем порождать бесконечное число реальностей. С одной стороны, модель формируется как приближение или абстрагирование известных условий, с другой — призвана обнаружить то, что невозможно наблюдать и даже помыслить в действительном. Эстетический опыт сегодня — скорее эксперимент, чем experience: произведение кристаллизуется из практики поэта, чтобы затем пройти опытную проверку в качестве модели совершенно иных ситуаций пересечения утилитарного и эстетического, общего и частного, жизни и истории; поэзия как модель — не объект чувственного переживания, но ситуация когнитивного действия. Если логика модернизма разрабатывала универсальные модели, опираясь на единство разумных абстракций, а постконцептуальная критика рассмотрела в каждой из них множество локальных частных случаев, то новое искусство оперирует моделями нелокальных взаимодействий, где элементы оказывают влияние друг на друга независимо от ментальных и временных дистанций, не требуя исторических или идеологических посредников: каждый элемент системы содержит знание о ее целом, а наблюдатель, то есть читатель, оказывается всегда включенным в произведение. Увиденное как модель, поэтическое произведение оказывается активной границей между искусством и жизнью, субъектом и средой. Это свойство отличает его от других объектов современной когнитивной повседневности и задает особый тип образности и производства смыслов. ПУТЕШЕСТВИЕ, КОПИИ, ДЕКОЛЛАЖ: СПЕЦИФИКА ОБРАЗНОСТИ ИСКУССТВА Любой образ является знаком, любое знание может быть представлено визуально. Постинформационная реальность занята рекурсивным пересчетом текста в цифры, цифр — в образы, и обратно. Различные визуальные и лингвистические практики коммуникативной среды будто бы уравниваются, оставляя культурным продуктам выбор: быть практичными (как дизайн) или быть понятными (как массмедиа). Становится невозможно выделять искусство в особое когнитивное средство на основании формальных, институциональных или жанровых особенностей. Поэтому смыслы новой поэзии не связаны с «формальным экспериментом», «политическим жестом», «индивидуальностью» почерка или темы. В отличие от коммуникативных образов культуриндустрии, искусство не проявляет общие знания, но обнаруживает смыслы в разрывах и швах сообщения. Образы современной поэзии можно назвать переходными или промежуточными; они не столько сообщают или показывают нечто, сколько описывают сам процесс перехода значения, пересчета регистров: воображаемого в символическое, повседневности в историю, медиума в форму. Если так называемая жизнь — это коммуникативный ландшафт, то видеть — означает путешествовать. Путешествие разыгрывается в текстах Сафонова на многих уровнях. Эта поэзия, подобно круглой скульптуре, требует обхода, открываясь только в сумме ракурсов дискурсивной оптики: внутри почти всегда даны некие реальный и ментальный пейзажи, по которым путешествует читатель, говорящие также находятся в движении[1]. Странствия романтизма, символистское фланирование, ситуационистский дрейф, сериальность концептуализма: путешествие порождает пространство и регулирует ход времени. В путешествии обретают смысл не уловимые сетями социальной прагматики промежуточные впечатления: мимолетные и незавершенные, они связывают места и моменты, взгляды и мысли. Маршруты субъекта каждый раз уникальны, их наброски рождают понятия, которые и становятся затем образами. Поэзия Сафонова обретает свою интонацию именно между образом и понятием, конспектируя историю разрушения образа-видимости и рождения образа-знания. Последний возникает как наблюдение за наблюдением. Наблюдатель второго порядка рассматривает чужие наблюдения — формы, выделяющиеся из того или иного дискурса, который и является медиумом этой поэзии. Фрактальная пульсация языковых структур текстов Сафонова — то ли материи речи, то ли иллюзорности означаемых — не дает отдохнуть читателю: «там» текста предстает как непрерывное углубление «здесь» акта чтения. На этом фоне тотальности текста у Сафонова регулярно возникают удивительно «реальные» объекты: будто бы сфотографированные вещи, будто бы чувственные впечатления[2]. Эти наложения лингвистических эффектов имитируют специфику постинформационного производства, где материальность формируется как сгущения потоков данных. Подобный прием не сближает слова и вещи, но скорее дистанцирует образ/интерпретант и изображение/слово, видящего и того, кем он является. Образ не равен визуальному знаку, но и не скрыт в мистической незримости опыта — отражение взгляда, образ обнаруживает единое этимологическое прошлое «видимого» и «идеи». В то время как теория давно дезавуировала и очевидность факта, и свободу желания, искусство настаивает на взаимности знания и воображения. Поэтика Сафонова развивает методы Языковой школы американской поэзии и близких ей российских и французских авторов. Эта поэзия преодолевает модернистскую проблему соотнесения языка и действительности, вытекавшую из понимания знака как двоичной структуры (означающее/означаемое) и порой приводившую к (безуспешным) попыткам «магической» натурализации слова или полной автономизации языка. Разрыв с этой логикой обеспечивается анализом пирсовской триады знак/объект/интерпретант, фокусируясь на возможности последнего порождать новую триаду при взаимодействии с говорящим субъектом — и так до бесконечности. Читатель, таким образом, включается в семиозис произведения. Поэтому Сафонов заимствует тезаурус и структуры из дискурсов различных искусств и наук, инкорпорирует выдержки повседневной речи и референции к текстам культуры — стирая границу между вымышленным и реальным значением, используя уже существующие интерпретанты как своего рода постредимейды, рукотворные копии шаблонных мультиплей. Так переосмысляется функция редимейда: копия задает иное пространство, нежели found object; повседневность не переносится в искусство, но воспроизводится в лабораторных условиях с целью анализа. Методы нынешней поэзии отличаются в этом от искусства 2000-х: сегодня клише не столь интересны, как повторение, глубина мрачного превосходит соблазн отталкивающего, энергия жеста осваивается медиакоммуникацией быстрее, чем синтаксис нового языка. Было бы ошибкой искать в «Узлах» продолжение постмодернистского цитирования, частного случая коллажа. В доинформационную эпоху искусство открыло в коллажировании способ расколдовывать идеологические метанарративы; сегодня коллаж точек зрения для коммуникативных медиасетей стал наиболее эффективным инструментом управления. Сафонов предлагает скорее негативный коллаж, удаляя из найденных фрагментов дискурса то, что для восприятия являлось контекстом, для идеологии — материалом. Это касается и материала сугубо «личного»: не вмешиваясь в экзистенциальный и политический фон события, поэзия возвращает его фигурам ясность не просто факта, но знака. Таков способ искусства эпохи медиа избежать растворения в коммуникативной повседневности. ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ГРАНИЦА: УСЛОВНОСТЬ, ВСТРЕЧА, ВООБРАЖЕНИЕ Важной чертой современной поэзии является осознание и удерживание собственной условности: о чем бы ни велась речь, поэт работает со знаками, и ни с чем более. Это подразумевает отделение художественной ситуации от повседневности. Термины «автономия» и «герметичность» адекватны этому лишь в той мере, в какой автономен и герметичен сам язык: структурированный по своим внутренним законам, он позволяет говорить о так называемой реальности именно в силу своей условности. Пронизанная потоками знаний и действий, коммуникаций и образов, повседневность просматривается насквозь, оставаясь недоступной репрезентации и рефлексии. Видимое обращает внимание, только останавливая взгляд, в поле невидимых сил, когда происходит столкновение знаковых систем и способности воображения, то есть языка и субъекта. Проявиться они могут только одновременно, в событии встречи. Оно и становится точкой перехода жизни в искусство, речи в поэзию. Встреча — это «перенос реального множества элементов в условное единство художественного действия»[3]. Произведение структурировано как язык такого действия, текст здесь оказывается лишь одним из моментов ситуации, заданной формой произведения[4]. Его условность является следствием непрерывности границ с внехудожественным, стабильность — эффектом динамики составляющих ситуацию элементов, от неровностей кегля до исторической полисемии дискурса. Если событие, по определению, нельзя сконструировать, то сцена встречи, в которой произведение и оказывается на виду, формируется двумя основными силами: волей к воображению поэта и кодами институциональных систем. Эти силы определяют политическое поле, доступное поэзии. Верность событию встречи сталкивает субъективность с системой, искусство — с жизнью, разделяя их и располагая любое художественное действие в измерении этики. Объект ее, однако, остается там, где за повторяющимися в произведении сценами встречи можно разглядеть одновременность «тогда» события и «сейчас» языка, действительность произвольного знака и алеаторные референции реальности. Сегодня поэзия, подобно современной живописи, легко комбинирует забытые методологические эффекты и фетиши различных художественных направлений, монтируя из стоящих за каждым «измом» исторических смыслов калейдоскопическую антиутопию надежд modernity. В одном тексте соседствует множество миров. Экспрессивные метафоры, «заумь» искаженных словоформ, сюрреалистический символизм, объективистская прямота, конвульсирующий синтаксис[5]; угол обзора и фокус оптики Сафонова нестабильны: эти образы лишены любой реальности, кроме той, которая возникает из усилия субъекта, отделяющего себя от чужого желания, а свой взгляд — от того, на что он обращен. Так проявляется политическая сила фантазии и фантазма в мире, где менеджмент желаний замещает непродуктивное воображение, основу свободной субъективности. По ту сторону этой драмы произведение искусства возникает не как новый порядок известных элементов, но и не как энтропия внутреннего мира. Требуя тем самым максимального вовлечения поэта, тексты Сафонова остаются структурно безличными, анализируя лишь универсальные оппозиции своего/чужого, объектности/процесса, знака/образа: формальная завершенность текста в данном случае возможна лишь за счет вынесения за скобки индивидуального «я». СУБЪЕКТ НОВОЙ ЛИРИКИ: ОЖИДАНИЕ И МИНУС-НАРРАТИВЫ «Будь собой!» — приказала индустриальная революция своему солдату, частному «я». На постинформационном рынке self, этот субпродукт коммуникативной генетики, — самый ходовой, но скоропортящийся товар: сегодня участие в общественном зрелище требует следования завету протомодернистов, «проклятых» поэтов: «будь другим!» Новое искусство отказывается от программирования аватаров субъекта ради формирования и описания мест встречи. В этом смысле всякое произведение сегодня — это ситуация, а точнее, наблюдение ситуаций. Его главный вопрос: кто тот, кто это видит? Творческая эволюция взгляда вела искусство от подражания к воспитанию, от конструкции к рефлексии[6]. Последняя определяется во времени ожиданием. С одной стороны, это ожидания читающего, сформированные предшествующим опытом и возникающими в процессе чтения смыслами; с другой — ожидание самого текста, в который включен взгляд читающего, сцена встречи. Так ситуация присутствия разворачивается по ту сторону произведения, там, где, как подсказывают «Менины» Веласкеса, то ли зритель, то ли зеркало, то ли ты: пересечение многих взглядов, которым только предстоит увидеть себя[7]. Искусство как рефлексия началось тогда, когда философ в отражении образа узнал наблюдающего субъекта. Но кого видят тексты в книге, когда она закрыта? Существует ли произведение без обращенного к нему взгляда? Если искусство 1960-х сопротивлялось волюнтаризму желания, следуя «принципу Поллока»[8] — конфигурация образа подчиняется структурным особенностям материалов, — то тексты Никиты Сафонова суть следы борьбы с привычками восприятия речи и законами грамматики письма. Обреченная на поражение, эта борьба необходима, чтобы обозначить новое отношение художественного и реальности: мимесис является лишь одним из возможных следствий аутопойетических мутаций образов, искажения формы не подчиняются эстетическим кодам модернизма, но напоминают об их исторических последствиях. Одним из таких последствий стала техницизация реальности, и поэтому для новой поэзии важны проблемы техники; именно через них необходимо понимать сегодняшнюю лирику, для нее язык — это машина. Наложения субъективного и технического формируют пространство текстов Сафонова подобно традиционной игре метафор и звукописи. Можно увидеть в этом и реинтерпретацию сюрреалистических практик, что характерно для искусства последних лет: столкновение символического и воображаемого сегодня вновь развернулось с небывалой силой, перекочевав из науки о душе в повседневность коммуникации. Если освобождение бессознательного в XX веке сместило фокус от образа к смыслу (что означает видимое?), то сегодня поэзия ищет источник взгляда, задаваясь вопросом: кто видит то, что вижу я? — неслучайно для современной поэзии главным модусом вновь становится лирическое высказывание. Чтобы поставить этот вопрос, необходимо вычесть из речи любой, а не только собственный, индивидуальный нарратив; так устанавливается дистанция наблюдателя относительно самого себя. Метод вычитания для новой поэзии выполняет ту же роль, что операция деления на закате модернизма. Разделив метанарратив на бесконечно большое множество, получишь набор идентичностей или личных историй (с которыми работала поэзия 2000-х); если же вычесть частный нарратив из потока образов — увидишь скобки общей, всегда-чужой системной функции — судьбы. Сафонов обнаруживает текст между своим и ничьим, продуманным и случайным, памятью и идеологией. Онейрические образы и сцены из кинофильмов, чьи-то воспоминания и культурные клише окружают изъятый нарратив, повторяя коммуникативные формы власти, но не являясь ее субъектом[9]. В отличие от искусства, деконструирующего политики идентичности, такая поэзия имеет не драматический, но трагический подтекст, ибо открывает пустотность не идентификаций, но самого субъекта. Инфраполитическое усилие поэта позволяет различать в языке уже исчезнувшее и еще не проявленное, объединяя на первый взгляд разрозненные места, мысли, моменты. Так в ситуации катастрофы публичной сферы именно искусство поддерживает одновременность воспоминания- идентификации и дистанцирования-рефлексии. [1] Ср.: «Между отражением моста и самим мостом <...> В этих пустынях <...> (Движение вод) <...> Раздельные признаки узнанного горизонта» (с. 5); «а) если П.: / (отходя в сторону, полуообернувшись)» (с. 7); «.осколок стекла, отражающего то, что за обходящий (с целью сойтись) стекло глаза» (с. 11). [2] Ср.: «Отказ от объекта в его описании — темные черты линий на матовом стекле» (с. 5); «Красный маяк, сумерки пространства, т.е. вещи, которых нет / о которых сказать — Я» (с. 19). [3] Шурипа С. Произведение как событие // Диалог искусств. 2011. № 5. С. 65. Автор использует концептуальные аппараты А. Бадью, Ж. Лакана и Ч. Пирса для анализа понятия произведения и механизмов его работы, выстраивая оригинальную художественную теорию, связывающую искусство с различными аспектами социального, научного и философского пейзажа современности. [4] Здесь уместно вспомнить минимализм, ср. у Майкла Фрида: «.опыт искусства буквализма — это [восприятие] объекта в ситуации, которая, по определению, включает в себя зрителя <...> нечто становится доступным восприятию только как часть такой ситуации. Все входит в нее — не как часть объекта, но как часть ситуации, в которой возникает объ- ектность как таковая» (Fried M. Art and Objecthood // Art- forum. 1967.Vol. 5. № 10. P. 3—4 (http://www.scribd.com/ doc/72476287/Michael-Fried-Art-and-Objecthood-1967)). [5] Ср.: «ф, а, бр на полу. Никакого света, лишь колесо рта / полного их в эпизоде 2: они пересчитывают сами себя // пока эта картина возвращается в появлении, звук снаружи спрашивает.» (с. 18). [6] Имеется в виду ряд ключевых эстетических парадигм: мимесис (классическая эпоха), «эстетическое воспитание» у романтиков, конструктивистская логика исторического авангарда и то, что некоторые современные исследователи называют «рефлексивным модернизмом». [7] Анализ этой картины см. в: Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 41—53. [8] Роберт Моррис выделял две основные линии преодоления авангардом «формализма» и волюнтаристского идеализма в искусстве: «принцип Дюшана» и «принцип Поллока». Первый основан на создании априорных логических систем (включая сюда и введение случайных процедур Кейджем), которое достигает кульминации в «полностью парализованных физически выводах концептуального искусства». «Принцип Поллока», в свою очередь, «строится на более феноменологическом подходе, где порядок порождается <...> "тенденциями", заложенными в самом взаимодействии материалов/процессов» (Morris R. Some Notes on the Phenomenology of Making: The Search for the Motivated // Sculpture. 1994. Vol. 13 (2). P. 26). [9] Ср.: «П: (кричит) "Я не могла сказать это / я говорю: последние дни окрашены ожиданием. Чтобы забыть то, что можно / забыть, мы обязаны считаться с функциями инерции разговора"» (с. 6). Журнал "Новый мир", №3 (2012) // Дмитрий Кузьмин. Поколение «Дебюта» или поколение «Транслита»?(выдержки, полный текст статьи по ссылке) Дмитрий Кузьмин И тут мы возвращаемся к теме свободы от трендов. Ведь стихи, «свободные от литературных трендов», — это стихи, не имеющие контекста, места и времени рождения, зависшие в безвоздушном пространстве «вечных ценностей». Между тем все действительно значимое в искусстве создается именно здесь и сейчас, внутри текущего расклада борьбы идей и конкуренции ценностей, — и прибавляет к вечности тот последний насущный момент, которого ей до сей поры недоставало. Развивая тот или иной наличный тренд или пытаясь его опрокинуть и установить новый, искусство не может позволить себе только одного: задраивать окна и двери от актуальных процессов, делая вид, что ничего не происходит. <...> Мы размышляем о том, как именно старшие литературные поколения могут наилучшим образом обустроить жизнь младших, исходя из представления, что такова вообще обязанность старших по отношению к младшим. Но история русской поэзии таких прецедентов, по сути дела, не знает. Романтики в начале XIX века, символисты, а затем футуристы и акмеисты на рубеже XX, первые ласточки независимой, неподцензурной поэзии середины минувшего столетия — едва ли не все случаи сравнительно массового появления ярких дебютантов были связаны не со встраиванием их в готовые (не говоря уж — в приготовленные для них) структуры, а с созданием ими самими новых институций. И даже если некоторая помощь и поддержка со стороны старших при этом имела место, то это была помощь со стороны чуть старших — так сказать, братьев, а не отцов (Державин-то благословил Пушкина — подростка-подражателя, а независимого, взрослеющего Пушкина поддерживали Жуковский да Вяземский). То есть классицистская модель литературной эволюции, основанная на принципе «передачи лиры», уж лет двести как не работает — что применительно к России равносильно «не работала никогда»: за подробностями можно отослать к известной книге Юрия Тынянова — а можно и к трудам Пьера Бурдье, подробно объясняющим, почему в эпоху автономии культурных практик задачей молодого автора является дистанцирование от устоявшихся и признанных творческих стратегий, а задачей стоящих за этими стратегиями мэтров — борьба с новоявленной ересью и еретиками. Так что мантры насчет того, что «мастерство всегда передается из рук в руки» (А. Алехин), что если предпринятая дебютантом «попытка сказать свое слово, выразить собственную индивидуальность <…> удачна, коеги признают его равным среди равных, мастером» (В. Куллэ), — это не маниловщина, а фамусовщина, претензия на монополию легитимации (к счастью, совершенно безосновательная). <...> Между тем инициативы, исходящие в последние десять лет (эпоха «Дебюта») от младшего литературного поколения, не требуют для пересчета даже пальцев одной руки. Илья Кукулин в исключительной по глубине мысли и тем вернее встреченной коллегами в штыки статье[17] уже перечислил основные дебютные площадки 2000-х: пара-тройка региональных поэтических фестивалей, сайт «Полутона» и петербургский альманах «Транслит». Легко увидеть, что почти все эти инициативы принадлежат авторам, личностно и творчески сформировавшимся в 1990-е — в условиях нестабильности всей социальной системы, недвусмысленно сигнализировавшей о необходимости и возможности создавать новое, прокладывать собственную траекторию в культурном пространстве[18]. К 2000-м и к младшему литературному поколению относится только созданный ныне 25-летним Павлом Арсеньевым «Транслит»[19]. И это очень характерный проект. Кукулин пишет о «Транслите», что альманах «не скрывает своей ориентации на концепции европейских левых интеллектуалов — неомарксистов, постмарксистов, альтерглобалистов и т. п.», — это очень осторожная формулировка. Начавшись безобидными экспериментами по переозначиванию текстов за счет игры контекстами (вроде гендерного выпуска, в котором читателю предлагалось угадать, сочинены ли подписанные инициалами тексты мужчиной или женщиной), альманах обрел за последние три года вполне ясные формат и месседж. Тематические выпуски «Транслита» комбинируют в единое целое стихи и, реже, прозу молодых по большей части авторов с отрывками философских трактатов и статьями по не столько литературоведению, сколько социологии литературы. Стихи эстетически выдержаны в диапазоне от постцелановского ревизованного Катастрофой модернизма до постмодернистских практик преображения чужого и отчужденного слова в содержательное и даже некоторым образом страстное высказывание (подробный анализ того, как и для чего Антон Очиров монтирует свои масштабные поэмы из разноприродных обрывков информационного потока, а Валерий Нугатов нижет в бесконечные цепочки формулы речевой агрессии, уведет нас слишком далеко от темы[20]). Статьи и трактаты так или иначе вертятся вокруг одной темы: идея автономии литературы и вообще искусства, идея о том, что у искусства есть некоторая собственная антропологическая миссия, себя дискредитировала — даже в той леворадикальной интерпретации, которую придал этой идее полвека назад Теодор Адорно (доказывавший, грубо говоря, что работа художника-новатора на свой лад приближает социальное переустройство мира). И теперь, следовательно, порядочный литератор должен от этой идеи отказаться и поставить свое перо на службу делу освобождения пролетариата[21]. Каковой тезис инкорпорированные в тело альманаха стихотворные элементы и иллюстрируют (зачастую далеко не столь прямолинейным образом). О премии же «Дебют», к слову сказать, один из заметных авторов «Транслита», не последний поэт поколения 20-летних Сергей Огурцов, пишет в своем блоге вот что: «Более, чем когда бы то ни было, „Дебют” сегодня откровенно обслуживает контркультурные интересы режима: 1. Сохранение консервативных ценностей (православие — самодержавие — национализм); 2. Обесценивание знания; 3. Абсорбция передовой культуры в официальной (имя которой — пропаганда); 4. Деполитизация искусства. <…> Когнитивный, эстетический и политический китч отнюдь не случайно возводится в образец. <…> Что может заставить тех, кому небезразлично искусство и культура, добровольно бороться за „Дебют”? Отсылать в такую премию свои рукописи — зная, именем чего является победа? Зная, что судьба их — плестись в лонг-листах, этих списках коллаборационизма, в окружении всего, что их ненавидит, что ненавидят они сами?» Спросим себя: случайно ли, что наиболее значимая молодежная литературная инициатива, возникшая по итогам пережитого Россией десятилетия государственнической стабильности, сцементирована антигосударственным и антилитературным пафосом? Тех, кому интересно в отстраненно-академическом режиме поразмышлять на тему взаимосвязи между характером устремлений молодых авторов и общественно-политическим климатом в стране, я отсылаю к замечательной монографии Марии Майофис «Воззвание к Европе. Литературное общество „Арзамас” и российский модернизационный проект 1815 — 1818 годов» (2008). Для меня же как для практика, откровенно говоря, ответ на этот вопрос стал очевиден несколько лет назад, когда «Транслит» еще лежал в пеленках, но очередная генерация замечательно талантливых 20-летних русских поэтов во главе с Михаилом Котовым на глазах угасала, переставая выступать, публиковаться, писать. Я тогда побывал на нескольких крупных литературных акциях в сопредельной Украине, еще хорошо помнившей Оранжевую революцию, где сперва наблюдал организованный блистательным Сергеем Жаданом фестиваль «Харьковская баррикада» (с заполненным молодежью залом мест на 500, восьмичасовой программой, в которой чередовались поэты и рок-музыканты, и местным слэмом, который безо всяких хитроумных манипуляций со стороны организаторов выиграл отличный лирический поэт Дмитрий Лазуткин), а затем — гигантскую фестивальную программу Львовской книжной ярмарки (ориентированную на студенческую аудиторию и в полной мере ею востребованную) и ее координатора, 18-летнего поэта Григория Семенчука. Нет, «оранжевая революция» России вроде бы не предстоит, а что предстоит в ближайшей социально-политической перспективе — не совсем ясно. Но если младшее литературное поколение — по крайней мере та его часть, которой не чужда вера в финальную необходимость этого своего занятия, в его собственную телеологию, не подчиненную ни мифологии, ни идеологии, — хочет сохранить себя, а старшее поколение — помочь ему в этом (и заодно сохранить себя тоже — вопреки сиюминутным задачам удержания символического капитала; ибо сказано: «...доколь в подлунном мире — жив будет хоть один пиит» — только новое «племя младое», пишущее по-иному и иное, обеспечивает своим старшим коллегам, оспариваемым и отвергаемым, принадлежность к живому коммунальному телу национальной поэзии, а не к мертвому культурному архиву)... Похоже, придется соединенными усилиями изобретать какие-то новые способы организации литературного пространства — подразумевающие двусторонность жеста и согласование «старшей» и «младшей» картин мира. Пока поезд не ушел. [17] К у к у л и н И. «Создать человека, пока ты не человек...» — «Новый мир», 2010, № 1. [18] К этому же ряду проектов, созданных в 2000-е по идеологии 1990-х, можно отнести и поэтический слэм, перенесенный на русскую почву Вячеславом Курицыным и поставленный на широкую ногу Андреем Родионовым. Содержательно проект полностью провалился: никто из являющихся ниоткуда турнирных бойцов так и не предъявил за весь отчетный период текстов, которые не стыдно было бы воспринимать за пределами дешевого прокуренного клуба и без предварительно принятой пары пива, а попытки вовлечь в процесс на равных кого-либо из состоявшихся авторов, даже обладающих достаточно броской манерой чтения, неуклонно терпят крах без одновременного контрабандного вовлечения представителей профессионального сообщества в зрительское жюри. Но по величию замысла — отойти в сторону от сложившейся иерархии авторитетов и учредить новую с нуля, с равным доступом для прежних мэтров и безвестных новичков, — безусловно, проект русского слэма вполне выдерживает гамбургскую конкуренцию с «Русскими символистами». [19] И положим, еще Фестиваль университетской поэзии, несколько раз проводившийся Анной Орлицкой, с последующим выпуском ежегодных сборников, — проект очень логичный по замыслу, поскольку пакт актуального искусства вообще и актуальной поэзии в частности с высшей школой — проверенная десятилетиями мировая практика. В той же статье Евгений Абдуллаев обрушивается на эту практику как на «превращение литературы из некой социальной ценности в факультативное средство досуга» — интересно, протекающие на соседних факультетах университета занятия общей теорией поля тоже видятся ему «факультативным средством досуга», а не социальной ценностью? Однако в условиях совершенной незаинтересованности в этом пакте самой российской высшей школы, гуманитарная ветвь которой, выжженная десятилетиями советского отрицательного отбора по идеологической благонадежности, в массе своей шарахается от современного искусства и современной литературы, как черт от ладана, инициатива Орлицкой задыхается. [20] И конечно, Андрей Ранчин прав, скептически замечая в своем обзоре «Транслита», что «у постпоэзии есть свое слабое место: она живет только как минус-прием, а в современной ситуации уже автоматизировались и мат, и кровавая брутальность, и тема произвола карательных правоохранительных органов <…> так что в конечном счете текст становится пародией на самого себя» («Новое литературное обозрение», № 107), — но это все говорится в предположении, что задачи постпоэзии лежат в поле поэзии, что радикальные авторы ведут подкоп под литературу. А если они зовут выйти за пределы литературы, то отчего б их текстам и не пародировать самих себя? А уж вопрос о том, насколько они художественно самостоятельны по отношению к более ранним и ставившим перед собой не в последнюю очередь внутрилитературные задачи авторам, будь то Михаил Сухотин, Кирилл Медведев или Станислав Львовский, в таком случае и вовсе не встает. Но вот то, что идеологическая заостренность поэзии и, в меньшей степени, прозы «Транслита» в равной мере захватывает план содержания и план выражения, резко отличая ее от, к примеру говоря, Захара Прилепина, чья идейная радикальность отливается в совершенно рутинные модели письма, — важно: приручить этих авторов рынку и истеблишменту будет существенно сложнее, потому что их перспективы в готовых инерционных структурах рынка и истеблишмента равны нулю. [21] Занимательно, что в своей анафеме идеям суверенности литературы, ее онтологической уникальности левые радикалы не одиноки: о бесповоротной дискредитированности этих идей в своих статьях, эссе, интервью последних лет постоянно твердит и другой круг авторов. Только двинуться предлагается в противоположную сторону: «Поэзия — не в правильной расстановке слов и даже не в поиске новых смыслов (старые бы усвоить!). Поэзия несет в себе дословесный гул стихии, космоса, мифа», — говорит в беседе с Павлом Басинским («Российская газета», 2010, 2 января) Вадим Месяц, отвечавший в жюри «Дебюта»-2011 за поэтическую номинацию. Журнал "Коммерсантъ Weekend", №5 (3650) // рец. на Медведев К. Жить долго, умереть молодым (СПб.: Kraft: Книжная серия альманаха «Транслит» и СвобМарксИзд, 2011) Игорь Гулин Жить долго, умереть молодым / Кирилл Медведев (Альманах "Транслит" и Свободмарксиздат) "Нужно говорить про Израиль / в этом верный секрет бессмертья, / это жизни жгущая рана, / и как раз Ланцман это понимает, / он знает, что политика в сердце / жизни как истории рана, / никому не нужная травма, / от которой не отвертеться..." В начале 2000-х годов заметный молодой поэт Кирилл Медведев решительно порвал с литературным миром, чуть позже посвятив себя организации Свободного марксистского издательства и участию в социалистическом движении "Вперед". Пару лет назад он, наконец, стал читать и публиковать новые тексты, и они оказались гораздо точнее и пронзительнее, чем все написанное им ранее. Совсем небольшая книжка "Жить долго, умереть молодым" — нечто вроде документальной поэмы о том, как Медведев и художник Николай Олейников (текст сопровождается его рисунками) пытаются взять интервью у французского режиссера Клода Ланцмана, автора монументального фильма о холокосте "Шоа". Герои терпят абсолютную неудачу: бывший рьяный марксист отказывается разговаривать об агрессии Израиля и прочих болезненных темах, и новые левые понимают, что ему с ними уже не по пути. Современные стихи Медведева, здесь представляющие собой сплав исповедального верлибра и раннесоветской поэзии (с отчетливыми поклонами Маяковскому и Багрицкому), существуют в странной двойной динамике: одновременно агитационного порыва и мучительной частной рефлексии. Самое интересное в них — страстная влюбленность героя в идеологию, всегда остающаяся немного неразделенной, неосуществимой. Однако эта неразделенность вовсе не провоцирует охлаждения. Именно вера в утопию не то что социального преобразования, но искреннего политического чувства полностью выводит тексты Медведева за пределы левой субкультуры. Для вновь волнующей сейчас очень разных людей мечты о политике они играют роль, может быть, не самого громкого, но очень точного резонатора.
OpenSpace.ru // рец. на Арсеньев П. Бесцветные зеленые идеи яростно спят; Сафонов Н. Узлы; Нугатов В. Мейнстрим. (все книги — СПб.: Kraft: Книжная серия альманаха «Транслит» и СвобМарксИзд, 2011) Денис Ларионов Книги Павла Арсеньева, Валерия Нугатова и Никиты Сафонова открывают вторую волну поэтических сборников, выпускаемых «Свободным марксистским издательством» и альманахом «Транслит»: в прошлом году вышли книги Романа Осминкина, Кети Чухров, Антона Очирова и Вадима Лунгула. Каждый из этих авторов обращается к культурным знакам, призванным демократизировать высказывание: Очиров и Осминкин прибегают к своеобразной версии постконцептуализма, а Лунгул и Чухров обращаются к форме, обращенной непосредственно к Другому — верлибр a la Уитмен и политический театр Брехта соответственно. Надо сказать, что эти книги не прошли незамеченными: вышеназванным авторам удалось нащупать некоторое проблемное поле, прежде всего связанное с репрезентацией культурных противоречий, с которыми сталкивается «современный человек» (что бы эти слова ни значили). Нельзя сказать, что книги Валерия Нугатова, Павла Арсеньева и Никиты Сафонова продолжают именно демократическую линию первых сборников. Скорее с выходом книг этих авторов у серии появилось еще несколько траекторий смыслополагания: это особенно справедливо в связи с именем Никиты Сафонова, тексты которого призваны объединить в себе герметизм современной американской и французской поэзии с экспрессией, присущей авторам-визионерам, например Геннадию Айги. Сафонов — яркий пример автора-одиночки, лишенного «семейного романа» (так, перенося фрейдистскую риторику на изучение взаимоотношений между поэтами разных столетий, называет противоречия поэтического влияния Гарольд Блум), апеллирующего к философии и визуальным искусствам и таким образом расширяющего границы поэтического языка: Обо всем можно сказать 2 слова — «это» и «кроме» (страх ослепнуть) Все, что видимо, касается тела, конечные и немые, близость, так или иначе, возвращенная дистанции. Рассуждение колеблется, как усопший маятник Лишь ветер, распадающийся на улицы-катастрофы пустые графы таблицы разговора о пресечении спора Этот текст является составной частью ветвящегося цикла «Позиции», включенного в книгу. Во многом он показателен: письмо, стремящееся вместить в себя фрагменты опыта желания, бомбардируется формулировками, призванными его (опыт) остранить. Причем делается это по меньшей мере двумя способами. Во-первых, с помощью неожиданного «поворота», призванного отделить один пространный фрагмент от другого, и, во-вторых, при обращении к «источникам», чье происхождение намеренно скрыто и предполагает дополнительную «герметизацию» высказывания: близость, так или иначе, возвращение дистанции. Можно лишь догадываться, что означают эти цифры, составляющие год, ставший переходным для ряда европейских стран. Также можно лишь предположить, что «п. 2.3» призван напомнить читателю о композиции одной из главных книг прошлого столетия: речь идет, разумеется, о «Логико-философском трактате» Людвига Витгенштейна. Причем, следует заметить, что «п. 2.3.» в самом тексте «Трактата» нет, а наиболее близкий ему пункт 3 гласит, что «Логический образ фактов есть мысль». Коротко говоря, перед нами «мысль», которая рождается после возвращения деконструированных психологических, исторических и других «фактов». Горловой сон, когда он видел ее. В какой-то момент на первый план выходит само производство значений, имеющее освобождающий потенциал: недаром на петербургской презентации «Узлов» Александр Скидан сравнил поэзию Никиты Сафонова с современной музыкой, особенно нойзом. Если Сафонов с каждым циклом расширяет территорию высказывания, то Павел Арсеньев, напротив, ограничивается проблематикой, которую определяют идеи, направленные на критику общественных институтов, идентичности потребителя, а также на исследование инстанции авторства, понимаемой Арсеньевым в духе формалистских теорий двадцатых годов прошлого века (в частности, ЛЕФа). Последней проблеме посвящен один из центральных текстов книги — Punto switcher. Он представляет собой нечто вроде тезисов для научной конференции (данный мотив иронически обыгрывается в тексте: «аспирант филологического факультета СПБГУ / кафедры теории литературы / фото сейчас нет под рукой»), транслируемых с помощью вынесенного в название устройства, которое выполняет функцию исправления и — наряду с возникающей в сознании по ассоциативному механизму перековкой — призвано поставить вопрос о бытийных и социологических основаниях авторства: подвергнуть трансформации саму форму практики пишущего бытования литературы была производной того, что внедрению новых отношений Тексты Арсеньева организованы как логические задачи с четко обозначенным субъектом высказывания: перед нами своего рода «машина иронии», призванная подначить читателя, вызвать у него недоумение или, наоборот, согласие. Что касается последнего, то и здесь скрыта своего рода ловушка, которая позволяет воспринимать тексты Арсеньева не только как сценарии для проводимых им акций, но и как собственно поэтический текст, направленный на проблематизацию социальных и культурных стереотипов, имеющих хождение в рамках литературного поля: сначала хочется, чтобы тебя изучали а все же иногда все равно Подобным образом в критический проект Арсеньева включаются и ироническое остранение революционных знаков прошлого («возвращаясь в аудитории / и вправду, не май-месяц»), и тавтологическое вышучивание языковых стереотипов («Ты должен желать, / Ты должен быть желанным, / Ты не можешь сходить с дистанции»), и приемы found-poetry… Книга Арсеньева заявляет о неизбежности пересмотра методологической базы ряда критических теорий — от формалистов до Франкфуртской школы. При определенной широте подхода ее можно было бы сравнить с недавно вышедшим сборником Кирилла Корчагина «Пропозиции», в несколько другом ключе и на других основаниях предлагающего пересмотреть наследие европейского модернизма. Из вышеназванных поэтов Валерий Нугатов — наиболее известный автор, чьи тексты, вошедшие в предыдущие книги, «Фриланс» и fAKE, очерчивают ряд проблем, которые возникают при описании постсоветской реальности. В отличие от Арсеньева словарь Нугатова гораздо разнообразнее и включает множество примет современного мира, которые почти всегда высвечиваются в негативистском, а то и в угрожающем ключе: всё будет ипотека и трупы в новостях При этом поэзия Нугатова далека от популистской критики, маркеры которой, что называется, бросаются в глаза — и поэтому никак, кроме как иронические (цинические), не могут быть прочитаны. Как отмечает в своей рецензии на книгу fAKE Кирилл Корчагин, Нугатов стремится «“расчистить поле” для нового социально ориентированного высказывания, не требующего искусственной легитимизации. “Естественная” же легитимизация происходит за счет того, что читатель готов признать определенное сходство с героем Нугатова и тем самым прислушаться к озвучиваемой им социальной критике». Как и в прошлых сборниках, тексты Нугатова представляют в критическом свете зоны мнимого общественного консенсуса, связанного с перераспределением символического капитала: попадая в поэтическую машину Нугатова, то или иное «горячее» событие (в диапазоне от мирового экономического кризиса до невероятной популярности творчества ряда современных поэтов, спекулирующих на роли «властителя дум») объявляется медиавирусом и преодолевается: они пропагандируют порошок Как видим, Нугатов сводит в рамках одного текста противонаправленные знаки, одна часть которых может быть прочитана как «высокие», а другая — как «низкие». При этом сама диалектическая форма построена таким образом, что уравнивает оба тезиса: перед нами слова в ряду мертвых слов. Концептуалистская риторика, связанная с усталостью поэтического языка и общей скептической установкой по отношению к человеку и обществу преодолевается здесь во время чистого аффекта, связанного с произнесением автором своего текста на сцене, — или неожиданной коды, призванной вывести высказывание в новый, неожиданный контекст: поэзия-фарэва <…> камон эврибади Новое Литературное Обозрение #107 // рец. на ТРАНСЛИТ: Альманах. Вып. 1—6/7. — СПб., 2005—2010. Андрей Ранчин «Транслит» — издание переменчивое, как Протей, и, по некоторым признакам, как бы несуществующее. За пять лет менялось жанрово-тематическое определение, только в четвертом выпуске впервые появились редколлегия и консультационный совет и были раскрыты сведения о тираже (900 экз.) и типографии. Однако в следующем выпуске и консультационный совет, и информация о тираже и типографии исчезли — зато появились данные о спонсорах издания. В сдвоенном выпуске 5/6 консультационный совет вернулся вместе с указанием на тираж (1000 экз.) и типографию — спонсоры же в свой черед канули в небытие. В довершение ко всему альманах приобрел указание на периодичность только с четвертого выпуска — более ранние не пронумерованы. Из числа составителей (позднее членов редколлегии) неизменным остался только Павел Арсеньев — главный редактор с пятого выпуска. Неизменны лишь периодичность (впрочем, в самом альманахе нигде не заявленная и ни разу не обещанная) — по выпуску (в последний раз — сдвоенному) в год — да особый дизайн — или, лучше сказать, антидизайн. Издается «Транслит» в чернобелом оформлении, на обложке — необязательные фото либо рисунки: пара обнаженных (вид со спины), питерский двор-колодец с пустыми — без стоп владельца — туфлями на асфальте, ангел Александровской колонны, опутанный арматурой лесов с застывшими на них фигурами людей, силуэт человека, взбирающегося (или спускающегося?) по домовой пожарной лестнице, данный в ракурсе снизу. Статуя почти превращается в человека, а люди — в скульптуру. Неожиданный ракурс словно превращает лестницу с железную дорогу, под шпалами которой лежит некто. Картинки на обложке указывают на, пожалуй, действительно главное в альманахе — на ситуацию перехода, пересечения границы — между скульптурой и живой плотью, между вертикалью устремленной ввысь лестницы и горизонталью железнодорожного полотна. Так и само название альманаха обозначает не передачу текста на одном алфавите буквами алфавита другого, а выход за границы изящной словесности, литературоведения, культурологических штудий, движение «поверх барьеров» — тематических, жанровых, нарушение культурных запретов и правил приличия. Уже во втором выпуске это кредо редакции и авторов было обозначено вынесенным на обложку эпиграфом, который стал девизом всех последующих выпусков: «The best way is always through». Выбор английского для эпиграфа вполне укладывается в поэтику транслита — из русского в иноземный с латинским алфавитом или наоборот. В первом выпуске эпиграф был другой («Все мужики — бляди, все бабы — козлы»), соответствующий его гендерной проблематике. Как определяют установку альманаха его составители: «“Транслит” — это своеобразный парадокс, воплощение двойственности творчества, отметающей прежние рамки антагонизма автора и текста, отметающей также и зависимость одного от другого. Это, если угодно, альтернатива авторо- и текстоцентризму. “Транслит” прежде всего интересен пишущим, а не читающим» (Вып. 2. С. 35). Любопытно, впрочем, что эта установка декларирована только во втором выпуске: альманах как феномен словно возник раньше своего проекта. На самом деле «Транслит» как раз пантекстуален, ибо посвящен не «жизни», а только текстам. А статьи — «средисловия» составителя (позднее главного редактора) Павла Арсеньева задают довольно жесткие рамки для прочтения отобранных поэтических текстов и для прозаических дискуссий, в которые вступают по его воле авторы. С первого по третий выпуск «Транслит» определял себя как «поэтический альманах», начиная с четвертого, он стал «литературно-критическим». Исконное определение полностью согласуется с содержанием его первого выпуска, состоящего только из поэтических текстов, и отчасти — с составом двух последующих, в которых стихотворения соединены с автокомментариями поэтов и иного рода рефлективными опытами над собственными текстами и над литературой и ее статусом вообще. Что касается подзаголовка «литературно-критический», то он способен лишь ввести в заблуждение. Изящная словесность в последних четырех выпусках представлена по-прежнему исключительно поэзией — пусть и устремленной к минимизации своих формальных стихотворных свойств — как в верлибрическом диалоге — «драме» Евгении Сусловой «Эволюция крови», или «верлиброобразных» на тонической основе текстах Валерия Нугатова, или чистых вольных стихах Александра Скидана (примеры из выпуска 6/7). Проза же — это не собственно литературно-критические разборы и размышления, а интеллектуальные эссе на различные темы. Не только о литературе, но и о кинематографе — как у Игоря Чубарова, чей текст «Дзига Вертов: коммунистическая расшифровка действительности» открывает выпуск 6/7, или о психолингвистике — как у Александра Смулянского, автора эссе «Факт и его отношение к аффекту речи» в том же выпуске альманаха. Каждый выпуск «Транслита» — тематический. Первый — гендерный эксперимент на тему различимости/неразличимости в поэтических текстах пола их автора. Двадцать один поэт — мужчины и женщины — печатают свои тексты под криптонимами, и только в конце альманаха загадочные буквицы превращаются в имена или фамилии либо (что весьма худо для непосвященного) — в псевдонимы, не всегда позволяющие определить пол стихотворца. Эксперимент забавный: сиди да гадай, положим, метафора «Сердце заросшее девственной плевой» («Вечерний день» А.Л.) у кого могла скорее родиться — у него или у нее? Местами некорректный: стихи Г.И. — женские, слишком женские, и для убежденности в этом не нужно удостоверяться в том, что два инициала принадлежат Галине Илюхиной. Более интересны примеры гендерной игры, когда стихотворец пишет о себе то в женской, то в мужской грамматике, то признаваясь «я когда-то любила тебя», то воображая себя кобелем, готовым все сделать «быстро, правильно, по-собачьи». Раскрытый инициал «В.» — «Валрос» не помогает разоблачить изящество игры с грамматическим родом. Но выводы из редакционного Послесловия: «Для того, чтобы литератору мужчине ввести в свои тексты женщину, позволив ей стать полновластной хозяйкой текста <…> он должен стать женщиной» и «Женщина (становящаяся писательницей и пишущая о персонаже-мужчине. — А.Р.) должна совершить революцию, обозначив конец истории, истории мужчин» (страниц не указываю — выпуск не имеет пагинации) — представляют собой малоинтересную серию трюизмов — как общечеловеческих, так и феминистских. Небанальны в послесловии разве что сноски: не с точки зрения предмета цитации (ну кто же не знает старика Леви-Стросса), а потому, что никуда не ведут — цифирки есть, а сами сноски are absent. Редакторский ли это недосмотр или сознательный прием, пример транслита-транзита-трансферта в никуда, судить не решаюсь. Но боюсь, что первое. Если первый «Транслит» транслитерировал пол автора из текста и обратно, то во втором предметом игры становится уже само авторство как таковое. С нелегкой руки Ролана Барта стало известно, что автор умер. Составители Павел Арсеньев, Вадим Кейлин, Олеся Первушина проблематизировали это утверждение: «Вопрос можно поставить так: то, что было интерпретировано как смерть автора, есть факт эмиграции произведения “под кожу” автора, вызвавшей утрату автором его земного облика (эстетизация личности), или, напротив, перенесение акцентов с автора на произведение, где он витает бесплотной тенью (наделение произведения индивидуальностью)» (с. 33). Желая соотнести тексты и их авторов, составители предоставили последним право как-то прокомментировать первые: «Таким образом, в выпуске авторы как носители эстетических программ и конструкторы собственных жизненных мифов противопоставлены текстам как таковым, поэзии без обрамляющих и претендующих на первенство условий (условностей)» (Там же). Получилось неудачно, но в отдельных случаях очень интересно. Неудачно, потому что текстам поэтическим оказались противопоставлены, естественно, не авторы, а их другие тексты — прозаические: иронические автобиографические комментарии, философические мини-эссе и проч. Иначе и быть не могло. Интересно, потому что тексты порой получились интересные. Что же касается мнения составителей, то оно таково: «Текст в постмодернизме <…> существует уже без автора — с тем же приблизительно успехом, что и автор без традиции: деиндивидуализируется <…>. Смерть искусства, кажется, наконец состоялась. Но искусство делает неожиданный ход: принимает собственную смерть за традицию — традицию существования в контекстах. И находит способ существования в “умершем” искусстве: через отрицание и сопротивление контекстам, вынесенным вне или между них» (с. 34). Я готов согласиться только со вторым тезисом: искусство (как система смыслопорождения и ценностей, а не как отдельные произведения) умерло, но автор жив, хотя и стал иным. И удостоверяют в этом не только гонорарные ведомости, но и несомненные различия между текстами, индивидуальные коннотации. Сопротивляться (хотя почему именно сопротивляться? Составители сильно преувеличивают, определяя индивидуальное начало лотмановским термином «минус-прием», кстати, Ю.М. Лотман в статье 1981 г. «Риторика» охарактеризовал природу индивидуального стиля уже намного сложнее) контексту можно тоже по-разному. Большего внимания заслуживает мысль о том, что «[у] традиции смерти искусства нет (не может быть) собственных эстетических догм» (с. 34), но, на мой взгляд, не потому, что оно отстраняется от контекста, а потому, что растворяется сразу во многих. Из этого тезиса постулируется «невозможность адекватной литературной критики, а также отсутствие потребности в ориентирах для читателя». И эта ситуация «обусловливает появление нового рода эссеистики, имеющей своим предметом размышления пишущего не просто об искусстве, но о собственном существовании в оном» (Там же). Мне так кажется, что литературная критика не умирает, но лишь отказывается от нормативной функции в пользу интерпретационной, а потребность в ориентирах не исчезает полностью. Проблематика второго «Транслита» продолжена в третьем, своеобразным манифестом является «средисловие» Павла Арсеньева «План побега из тюрьмы языка и проблема его дефиниции», в котором задается для обсуждения вопрос о соотношении мифологем писателя — «вершителя судеб» и писателя — «машины языка» и вопрос о соотношении автора, придуманного автора и лирического героя. На последний отвечают поэты — создатели «авторов-фантомов»: Мария Степанова, породившая Ивана Сидорова, Кирилл Ковальджи, создавший Владимира Свирелина, и прочие. Четвертый «Транслит» посвящен теме, обозначенной как «Секуляризация литературы». В статье Александра Скидана «Поэзия в эпоху тотальной коммуникации» констатируется утрата не только изящной словесностью, но и филологией, и вербальной семиотикой своих прежних позиций и выражено мнение (вслед за Морисом Бланшо), что современное существование поэзии диктуется разрывом между нею и техникой: «Поэзии еще предстоит изобрести способы пребывать в сердце этой абсолютной разорванности, вынести ее как открытость будущему и, кто знает, будущим — коллективным — действиям <…>» (с. 11). На языке Павла Арсеньева мысль о новом статусе поэзии формулируется с чеканностью лозунга: «Сегодня не должно быть ничего более будничного, чем поэзия» (эссе «Бюрократия кода» — Там же. С. 41). В пятом выпуске, озаглавленном «Кто говорит?», высвечивается новая грань все той же проблемы соотношения высказывания, прежде всего художественного, и его субъекта, в 6/7-м, названном «Стиль факта и факт стиля», — соотношение неэстетического материала и методов его художественной трансформации. Ключевой текст и здесь принадлежит Павлу Арсеньеву («Литература факта как последняя попытка называть вещи своими именами»); заслуживают внимания также статья Игоря Чубарова «Дзига Вертов: коммунистическая расшифровка действительности» и статья Ильи Калинина «От понятия “сделанность” к технологии “литературного ремесла”: Виктор Шкловский и социалистический формализм»; правда, настойчивое проведение Ильей Калининым параллели между суждениями Шкловского об автоматизации и остранении и концептами марксовской экономической теории1 представляется мне сопряжением весьма далеких понятий. В целом «Транслит» интересен как успешный опыт синтеза под одной обложкой поэтического и метапоэтического, философского и проч. дискурсов — обычно в отечественной практике постсоветского времени подобные попытки не удавались. Правда, последовательная и неуклонная ориентация авторов эссе на постструктуралистскую гуманитарную традицию сужает интеллектуальное поле и отсекает возможность иных трактовок: о методе на страницах «Транслита» не спорят, как, в общем-то, не спорят вообще. Но это дело вкуса. «Транслит» не менее интересен как пример внедрения того, что на языке его авторов именуется «левыми практиками». Сергей Огурцов, развивая мысль Павла Арсеньева «о необходимости сравнять искусство с землей политики», провозглашает его демократичность и антибуржуазность, убежденно утверждает: «Любое “хорошее” искусство содержит в себе освободительный потенциал, и задача левых освободить освобождение» (Арсеньев П., Огурцов С. Я говорю, следовательно (?), ты существуешь» — Вып. 5. С. 51). Позиция нетривиальная: в России последних лет при рецепции идей левого западного постструктурализма последовательно происходило их поправение. Что же касается стихов «Транслита», оценивать их не берусь, хотя, на мой взгляд, среди них есть замечательные, удачные и слабые или графоманские. В постмодернистском контексте «Транслита» даже «обыкновенные» стихи подсвечиваются глубинной иронией, и вопрос «лучше—хуже» становится идиотским. Конечно, для «Памперсов» Вадима Лунгула («Опять поругался с женой из-за памперсов, / заодно поругался с тещей по поводу домашних расходов») должны быть свои ценители, способные признать правоту манифеста их автора: «Поэт хочет говорить о том, что его волнует, будь это памперсы или мед. полис. Поэт осознает, что стихами может быть все что угодно, и в этом его сила» (вып. 4. С. 23, 21). То же относится и к стихам Романа Осминкина про маленькое офисное чмо (вып. 2) и к эротико-гомосексуально-мазохистско-обличительной фантазии Валерия Нугатова «Пусть ворвутся» (вып. 6/7), живописующей изнасилование лирического «я» участковым, фээсбэшником и фэмээсчиком («пусть ебут сколько им влезет вздыхая и благоухая на кроваво-обосранном ложе»). Собственно, это, как и, например, стихи Андрея Родионова (вып. 6/7), — опыты постпоэзии, причем в своем роде замечательные, и их, действительно, нельзя мерить старой, классической меркой. Но у постпоэзии есть свое слабое место: она живет только как минус-прием, а в современной ситуации уже автоматизировались и мат, и кровавая брутальность, и тема произвола карательных правоохранительных органов, и пародийно поданная тема «интеллигентского» или «либерального» страха перед ними. Так что в конечном счете текст становится пародией на самого себя или десемантизируется. «Левый» и декларирующий свою «демократичность» «Транслит» при нынешнем положении вещей — альманах для немногих. Но ведь в России все своеобычно: даже левая идея борьбы против репрессивных потенций языка была подхвачена политическими правыми интеллектуалами. Чтение «Транслита» невозможно без хорошего знания постструктуралистского языка и, если угодно, типа философствования. Помимо всего прочего — и без острого глаза: альманах набран чрезвычайно мелким кеглем. Видимо, чтобы не читали «посторонние». Но на серьезное расширение круга читателей это издание, повидимому, и не претендует. Главное: «Транслит» состоялся. Новое Литературное Обозрение № 107 // рец. на Чухров К. Просто люди: Драматические поэмы. — СПб.; М., 2010. — 68 с. — (Kraft: Книжная серия альманаха «Транслит» и Свободного марксистского издательства). Данила Давыдов / ПРОЕМ МЕЖДУ СУЩНОСТЯМИ Поэт, филолог, философ, арт-критик, перформер Кети Чухров (Чухрукидзе) известна яркой монографией «Pound & Pound. Модели утопии 20-го века» (1999), переводами англоязычных поэтов и мыслителей, оригинальными выступлениями в духе sound poetry и глубокими аналитическими статьями... Новая ее книга (предыдущая — «Коллекция цезур» — выходила в 2001-м) — не просто сборник стихотворений; она с очевидностью носит проектный характер. Само место публикации «Просто людей» принципиально. Серия, организованная несколькими левыми по убеждениям авторами, являет собой пример «нового самиздата». В издательской аннотации отмечается: «Бумага, на которой напечатана эта брошюра, в полиграфическом производстве называется “крафт”. Такой же пользуются работники почты и многих других технических отраслей. Труд автора вложен не только в тексты, напечатанные на этой бумаге, но и в делание самой книжки, ее послепечатную обработку. Возможно, именно потому, что поэты, как правило, не были заняты материальным трудом, то, что вы держите в руках, не похоже на “нормально сделанную” поэтическую книжку...» Такого рода самодельные книги — самиздат не вынужденный, навязанный невозможностью публикации, но четкий жест, указание на принципиальную прямоту, «бедность» проекта, на его противопоставленность полиграфическим изыскам (не случайно соучастие в проекте Свободного марксистского издательства, организованного Кириллом Медведевым, чье неприятие весьма широко понятого литературного истеблишмента неоднократно было продекларировано). Книга Чухров в ряду иных, появившихся в серии5, — самая объемная (и единственная стандартного формата А5, а не карманного). Грубость бумаги, принципиальный минимализм оформления создают странную на первый взгляд, но при этом более чем уместную оболочку для того, что в ней содержится. В сборнике семь текстов, которые обозначены как драматические поэмы. Впрочем, сама драматургия здесь ставится под вопрос: перед нами голоса, лишь в малой степени могущие быть четко локализованными в условном сценическом пространстве. Сама Чухров отмечает, говоря о своей поэтической практике (наша задача и упрощается, и одновременно усложняется тем, что Чухров принадлежит к разряду авторов рефлектирующих, в том числе и над собственной культурной позицией): «Задача синтеза двух источников выражения (слова, тона, перкуссии) именно в столкновении, создающем новое поле разницы, драму количеств, “театр”, в котором впоследствии нашлись бы силы сделать уже совсем другое усилие — искать более интенсивный стимул оформления времени, чем смерть, нечто открытое и со смехом ускользающее от конца»6. Это именно «театр» в кавычках, по приведенной в той же заметке формуле, абстрактный, но не наративный или дискурсивный. Происходящее в этом «театре» можно пересказать, лишь учитывая сам кризис персонажности. В каком-то смысле эти тексты продолжают сценические модели Введенского или Беккета, однако перед нами неметафизический (может быть, даже антиметафизический) художественный мир, пространство чистых актантов, лишенных представления о самой возможности какого-либо онтологического конструирования. Чухров производит эксперимент весьма редкий, если не сказать уникальный. Ее недискурсивный, абстрактный «театр» актантов вскрывает мир сугубой социальности. Невозможность дискурса, ситуация, говоря словами Ирины Соломатиной, «разорванной коммуникации»7, оказывается оборотной стороной чуть ли не гиперреалистического устройства этих сцен. Перед нами отказ от привычного диалога и/или привычного действия, происходящий не из мира чистых абстракций, но из самой антинарративной природы обыденного бытия. Поселенные в поэмах-сценах фантомы играют социальные, гендерные, этнические и т.д. роли «просто людей»: название книги отчасти провокативно, поскольку именно эти «просто люди» ведут себя категорически не просто. Навязанные обществом механизмы «правильного» поведения могут осуществляться с безукоризненной, чуть ли не пародийной точностью, а могут решительно нарушаться, однако — в отличие от психологически мотивированной дискоммуникации между персонажами, продемонстрированной еще в драматургии Чехова (и многократно в дальнейшем воспроизводившейся в самых различных контекстах у множества авторов), — здесь разрыв диалога, трансформация социально нормативных поведенческих и речевых актов в вызывающе ненормативные чуть ли не спонтанны. Чухров отнюдь не деконструирует репрессивный язык обыденности. Она делает его единственным содержательным явлением в рамках социального пространства, представляемого как лишенное структуры и не могущего иметь в самом себе обоснования. В результате перед нами вместо традиционных сцен оказываются своего рода волновые процессы, движение чистого ритма речи, лишенное какого-либо внешнего смысла (именно об этом и говорит Чухров в цитировавшейся выше заметке, указывая на приоритет ритма перед нарративом). Сильные аспекты человеческого страдания (голод, сексуальное насилие, социальная или этническая дискриминация) просто есть; они не выполняют эпатажной роли, но фиксируются. Уже в первом из включенных в книгу текстов, «Комендантский час, или Все есть» — имеющем саркастический подзаголовок «Цирковая комедия с элементами акробатики» и не менее едкое пояснение: «сцена поедания продуктов», — сам факт страдания, девиантного поведения, насилия предстает лишь фоном для монологических авторепрезентаций псевдоперсонажей-актантов. Диалог невозможен не столько по причине логоцентрического кризиса, сколько из-за тотальной деконструкции личности как таковой. В сценах того же Введенского мы встречаем умирание личностного начала как метафору апокалиптического (или даже постапокалиптического) состояния мира (стоит вспомнить хотя бы такой текст, как «Куприянов и Наташа», на первый взгляд могущий показаться претекстом к сценам-поэмам из «Просто людей»); у Чухров мир отчужден от человека, диалог невозможен, но это нормально с точки зрения всех возможных конвенций: «…для колбасы нужна работа, / работа для колбасы — весна. / колбаса денег ждет, / Денег ждет все. / Раньше бывало я в сберкассу банкноты несу, / а теперь как цыганка в трусы ложу» (c. 8). Следовательно, зло таится именно в конвенциях, а не в имманентных свойствах мироздания. В этом, собственно, видится как раз основа идеологической левизны, прочитываемой в текстах Чухров. Не только, разумеется, в этом, можно рассмотреть здесь различные аспекты. Так, упоминавшаяся уже И. Соломатина убедительно анализирует поэму «“Афган” — Кузьминки» с точки зрения гендерных ролей и взаимного отчуждения разного типа «других» (в сцене действуют Гамлет, «поставщик оптом и в розницу меховых товаров для вещевого рынка “Афган” в Кузьминках», и Галина, «продавщица, стоит за прилавком галантереи»). Роли «других», актантов, принадлежащих принципиально несовместимым участкам разорванного социального поля, действительно оказываются у Чухров едва ли не единственно важными для нее. И здесь возникает еще один немаловажный момент, делающий критический заряд «Просто людей» особенно сильным. Для Чухров разрывы и фрагментированность социокультурного пространства есть чуть ли не главное основание для существования ложных конвенций, подменяющих реальность фантомным существованием. Говоря в одной из статей о целостности художественного архива человечества, Чухров подчеркивает: «В роли удушающего “цеха” часто выступает и презумпция жесткой наследуемой преемственности художественного опыта — кто чему и кому наследует. Все эти бредни надо забыть. Никого и ничего с парохода современности сбрасывать не нужно. Просто надо понять, что дано все всем. Иначе существование жизни на земле не имеет значения»8. Формула «дано все всем», кажется, может быть названа программной и применена отнюдь не только к искусству как потенциально единому пространству. Но и собственно право собственности на художественное высказывание, узурпируемое элитами, может предстать вполне убедительным примером разорванного бытия. В сцене «Беженцы идут в “Большой”» маргинализированные персонажи — Батал, «беженец-меломан, 67 лет, бывший преподаватель истории», и Польша, «беженец-меломан, 65 лет, бывший электрик», — отчуждаются от культурного пространства, в праве на принадлежность к которому, в силу их социального статуса, им отказано: «Батал: / Нас это очень радует, и мы стремимся видеть / желания влюбленных живодеров. / Для этого мы собираем деньги на Большой, / Там заживо берут за шею, и вот когда работает душа. // О почему так в пенсионном фонде не поют, / О почему так не кричат в сбербанке, / Когда мне 800 рублей на льготы выдают / и прячутся за рамки // (начинает громко подпевать певице) // Билетерша: / Вонючий зритель, прошу вас выйти вон / из кинотеатра Иллюзион» (с. 32). Иное дело, маргинализированные фигуры подчас оказываются масками уже не с позиций общей структуры поэтического высказывания, но внутри демонстрируемой в тексте фантазматической реальности. В поэме «Комьюнион» происходит такого рода подмена: Диамара (Диа), «маляр из Назрани», прислуживающая Ните, «фото-художнику, дочери крупного бизнесмена», находится в положении и униженной, вытесняемой из доступного другим порядка вещей, и ведомой, духовно пасомой: представитель маргинализированных социальных групп одновременно и слуга, и неразумное дитя: «Нита: / Связь — духовная в первую очередь власть / власть того, у кого духа больше, — / того, кто тебе его передаст, поделится, / тебе плебсу этого не понять. // Диа: / Я, Нита, это понимаю, / Я тобой, духом твоим / и совершенной красотой / восхищаюсь, верю, надеюсь, люблю, / тебя ни на кого не променяю, // Ты ж будущая крестная моя. // Я же твоя на века, / Ты же ближе сына и мужа мне тогда. / Ты кричи на меня хоть всегда...» (с. 60). Разрыв, казалось бы, прописан намертво, осознан как основа мирового порядка: «Кто-то пишет стихи, ктото метет, / Кто-то снимает кино, кто-то поет, / Кто-то проповедует, речет, / Кто-то мою машину моет, ведет. / Это и есть бытие, всё по всякому, для всех по-разному, / на своем месте, / а между сущностями божественный проем» (с. 64). Социальный «проем» притворяется метафизическим (что в картине мира Чухров — заведомо лживо). Однако в конце текста мы обнаруживаем под маской малярши «вальяжную московскую метросексуалку», развлекающуюся социальным нисхождением, на деле же занимающую социально доминантную позицию: «Ну все, Толь, наконец-то. / Кем была в этот раз? / Маляршей из Назрани. / Сработало еще как. Иду к тебе в Ваниль, позвони Диме, / пусть подгонит мою машину туда же, / Нет, маленькую. Ощущение кульное, придешь, все расскажу. / Я даже камеры ставила. / Смонтирую сначала, потом покажу. Кто? / Клуши типа духовные, богатые парвеню, одни понты...» (с. 66—67). При этом важна именно культурная фиксация («Я даже камеры ставила» и т.д.) этого имитационного бытия, принципиально меняющая полюса рефлексии. Здесь дискоммуникация — результат не только прямой невозможности диалога, но и ложности статуса персонажей-актантов. Самое вызывающее, обращающее на себя внимание прежде всего свойство драматических поэм Чухров — их стилистическая агрессивность, принципиальная языковая неоформленность — является лишь способом демонстрации тотальной невозможности встречи разных «других» друг с другом. То, что одни и те же тексты могут быть прочитаны с позиций исполненного пафоса трагического мировосприятия или же черного юмора, также говорит о произвольности мира социокультурных конвенций, которые управляют персонажами Чухров. Вместе с тем, за рисуемой ею беспросветно-мрачной картиной явственно скрывается воля автора к некой потенциальной, неосуществимой, утопической — но подлинности. В этом смысле критический вызов, содержащийся в «Просто людях», нацелен и на предыдущее поколение критиков действительности как идеологического симулякра, кажимости, отказывавших ей в какой-либо значимости. Вместо деконструкции «литературоцентризма» перед нами поэтическая критика мира социокультурных ролей, выставленных на продажу, миропорядка, в котором есть лишь мнимости и конструкты — поставляемые искусством в том числе способы позиционирования и взаимодействий, — предстающие товаром. Левая мысль прошлого и настоящего постоянно говорит именно о катастрофической коммодификации всего и вся; заслуга Кети Чухров — в проведении этой критической интенции на практике, в уникальном — по крайней мере, для отечественной литературы — художественном подходе. Новое Литературное Обозрение № 103 // Рец на. Очиров А. Палестина: Поэма. — СПб.; М.: Kraft (Поэтическая серия альманаха «Транслит» и СВОБМАРКСИЗД), 2010. — 64 с. Виктор Иванив / НЕВЕСЕЛАЯ НАУКА АНТОНА ОЧИРОВА Книга Антона Очирова «Палестина» — своеобразный опыт «регистрации мира», в котором соблюдаются принципы, унаследованные от первого авангарда 1910-х годов авангардом вторым: в книге политическое высказывание, прямое действие слова, обретает эстетическое преломление, отчуждая переживание внутреннего времени, очерчивая круг внутренней речи (термин, введенный в обиход Владимиром Библером применительно к поэтике Всеволода Некрасова)1. На одной из последних страниц, там, где в книгах 1990-х годов размещалась реклама спонсора-издателя, можно обнаружить цитату в форме информационного сообщения: слова журналиста и социолога Олега Киреева (ему посвящен фрагмент поэмы) о «Newsjockeying» — практике диджеев, которые вместо музыкальных композиций микшируют новостные сообщения. Нечто похожее использует при композиционном построении своей книги и Очиров. В отличие от авангардистского коллажа с его принципом соединения стилистически разнородных элементов, у Очирова цитата, «чужое слово» встраивается в трехчастное антитетическое высказывание. В этом высказывании можно было угадать традиционную диалектику «тезиса и антитезиса», если бы не особое зияние, зазор, непоправимо разделяющий весь языковой строй. О некоторых символических аспектах, точках притяжения и контрапунктах поэмы и пойдет речь в этой заметке. В виде тезиса указанный «новостной» принцип, который Очиров берет на вооружение, приводится в процитированном в поэме высказывании галериста Марата Гельмана: «Умение мыслить, прогнозировать теперь не будет иметь никакого значения. Аналитиками станут те, кому будет доступна банальная информация: кто, с кем, когда» (с. 15). Хотелось бы коснуться «остраненного» в поэме чужого опыта, и в первую очередь опыта русских будетлян и их последователей, который лежит в основании проекта, подвергаемого Очировым критической переоценке, присвоению и «выбраковыванию во времени». В свое время сходный опыт переживания или проживания новостной информации был описан в книге Леона Богданова «Заметки о чаепитии и землетрясениях», в которой сидящий у радиоточки рассказчик напряженно вслушивается в голос диктора; интересуясь разломом земной коры и фиксируя точное время каждого нового землетрясения, он пытается построить прогноз катастрофы и волевым усилием слуха превозмочь грядущее. У Богданова есть важный фрагмент: «Здесь — приближается столетие В. Хлебникова, и оно, конечно, должно быть ознаменовано большими потрясениями. Поживем еще. Обязательно хочется записать, что здесь будет. Не только же комета Галлея прилетит, будут и на Земле какие-то знамения»2. Образ «воина времени», пытавшегося уложить в таблицы все грядущие войны, с помощью «корня из нет-единицы» заставить саму смерть умереть («Смерть смерти будет ведать сроки», — пишет Хлебников в программной поэме «Ладомир»3), образ Председателя Земного Шара не случаен. Леон Богданов вновь предпринимает попытку революционного повторения авангарда: на страницах «Чаепитий» передан не только внутренний опыт одиночки, перед глазами проходит вся жизнь 1960—1980-х годов в Ленинграде, в сделанное мимоходом описание попадает малейшая деталь предметного мира. Это происходит в экстатической попытке «сдвинуть трещины земли» таким образом, что сам текст становится универсальной таблицей «регистрации мира». В его центре находится медиум-скриптор, экстазу которого помогают два средства — чифир и гашиш. В книге Богданова воссоздается заново вся полнота бытия, весь мир предметов, слов, направляемый мыслью к некоему центру — точке взрыва. Сходным образом строит свою книгу и Антон Очиров. Однако он исходит из диаметрально противоположных установок. Преображение мира и одновременно его полнота, чреватая будущим, декларируются в тексте как абсолютно невозможные: Точка пространства и времени — центр мира — ставится Антоном Очировым под прицел. Эта точка множественна. В каждой детали этого центра присутствует все — totum. Но это «все» недосягаемо. И тем не менее в каждой такой насыщенной точке происходит взлом (сравни у Хлебникова «Взлом Вселенной») — это достигается чужой цитатой, которая приобретает травматический оттенок в противовес с трудом вычленяемому лирическому высказыванию «от первого лица», направленному на поглощение высвободившейся энергии времени (таково, например, высказывание Гельмана «…все достигается в первую очередь прослушкой» — взамен Очиров предлагает — антитезис — тотальное «прослушивание мира»). Чужое травматическое слово, окрашенное политически, призвано у Очирова взломать стандартные смысловые ряды, устоявшийся «нормальный» миропорядок, в котором нормально высказывание «а что с девушками — выебали и все» (с. 22), выступающее маркером единства всех иерархий власти — от подворотни до культуриндустрии. Тема травмы задается в поэме с первого же фрагмента, где герой назван травмированным, а сломанная (пальмовая, оливковая) ветка Палестины сравнивается с лейкопластырем. Травма присваивается и превращается у Очирова в дискурсивное оружие (примерно в том же смысле, в каком Жан Бодрийяр говорил о террористах 11 сентября, которые «сделали свою смерть оружием против символической власти»4). Очиров атакует иерархию смыслов и положений, символическую власть, символический капитал, подменяющие понятие реального «реальным понятием». В своем блоге, каждый пост которого представляет собой «условную единицу» очировского цикла, поэт цитирует высказывание журналиста Дмитрия Соколова-Митрича: Параллельно с «Общей газетой» я стал сотрудничать в информационном агентстве «Телескоп», брать интервью у первых людей российского телебизнеса. Мной стала овладевать сила реальных людей и реальных понятий. Альтернативой стихам для меня стали деньги — и это был не художественный жест, а обычная жажда денег, желание иметь то, что они дают, — товары, услуги, статус. Просто в какой-то момент я вдруг осознал, что и я, и вы пишем такие стихи, что, по сравнению с ними, деньги — это нечто гораздо более весомое. Вообще я стал приближаться к мысли, что главное качество стихов — не форма и не содержание, а вес и заряд реальности. Реальности в том значении, в каком это определение употребляют современные бандиты: реальный пацан, реальное дело, реальные бабки. То есть нечто такое, что простирается за пределы базара, нечто, отягощенное ответственностью, нечто, грозящее реальными последствиями5. Реальное, с которым работает Очиров, носит иной характер. Это время, простирающееся за пределами языка, но приводящее в движение всю систему представлений и действий. Отказ от обретения этого времени у Очирова маркирован цитатой из романа Николая Кононова «Нежный театр»: письмо здесь является агоном, борьбой с фигурой отца, олицетворяющей время. Очиров заглядывает в прошлое, в котором он ищет и не находит опоры, через голову отца, обнаруживая принцип реальности, подчиняющий себе все говорение. События, произошедшие в прошлом, в пересказе переносятся в план настоящего, охватывающего все большие и большие территории. Однако при этом развертывании в языке наблюдается парадокс — упомянутые события вырываются из контекста и подчиняются только логическому порядку, становятся освобожденными самодовлеющими единицами. Один из контрапунктов в конструкции очировской поэмы — разбитый на стиховые отрезки рассказ Егора Летова о принудительном лечении в психиатрической больнице. Летов говорит о пограничном опыте, опыте столкновения с трансцендентным — Реальным в смысле Лакана — «светящейся спокойной единицей сознания» (с. 41—42). Достижение этой точки — куда изначально направлен был взгляд поэта, — точки взрыва, позволяет вырвать целые куски и пласты внутреннего времени, подлинной жизни. Здесь в поэме Очирова возникают две ключевые фигуры второго авангарда — Геннадий Айги и Всеволод Некрасов. Сам строй поэтического высказывания у Очирова наследует как Айги, так и Некрасову, устремлен в самую точку зарождения речи, к некоему центру мироздания. В поэме возникает flash-back, запускающий «дорожку» внутреннего времени, времени памяти, таящего в себе экстатическую детскую радость, — таков эпизод с «индейкой-индианкой» и фрагмент «поклон пению» (с. 18). Символом этого становления голоса во времени становится описание фотографии Всеволода Некрасова в позе гимнаста — это еще один центр поэмы Очирова, который удерживает, словно на весу, «обрывки слов и чисел». Обрушившаяся в пропасть опора прошлого, а вернее, сам жест «поиска опоры в пустоте» высвобождает как внутреннее, так и «объективное» историческое время, например «память о Холокосте», а также — через Айги и Вс. Некрасова — о Маяковском и его Поэтохронике «Революция». И это время оказывается прочнее, чем редуты власти, чем трансляции ОРТ, информационные потоки и новостные миксы. Подрыв, запуск «сюжета» может начинаться с рассказа о подожженной греческими демонстрантами новогодней елке (с. 10) или с фрагмента об отречении Ельцина (с. 32). И всякий раз это катастрофический сюжет, который крадет у будущего силы и время. И неимоверным экстатическим усилием поэт-медиум удерживает это будущее от падения в пропасть, словно бы «в две минуты проскакивая версту», на себе прочувствовав ницшеанскую «веселую науку дорогого бытия». В частном письме Очиров говорит о том, что достается ему в наследство от футуристического проекта, — это некий «коммунизм голосов», звучащих в единственно возможном продолженном времени, пласты которого вырываются, разлетаясь от точки взрыва. Лишь записанным с этих голосов возможно финальное высказывание поэмы: И эти голоса звучат в голове человека, который заносит одну ногу над пропастью, вернее, над «цепной реакцией» падающих и наступающих пропастей. Но человек сохраняет рассудок в этой катастрофе и отваживается видеть продленной жизнь своих детей — цикл, написанный во время операции «Литой свинец», в тексте поэмы совпадает с упоминанием 5-го месяца беременности у N. (с. 7). Точки центра — «сверкающая умная единица» и поющая фигура поэта-гимнаста — звучат живыми голосами во времени над несуществующей, разъятой землей, над изрезанной новостной картой. Однако от слов Хлебникова «мусульмане те же русские и русским может быть ислам» и от его «зеленого знамени» и «ветки вербы» остается общее для палестинцев, израильтян и русских ощущение, что они «живут, под ногами не чуя страны», что обетованная земля исчезла, что они стоят на воздухе, как «ветхозаветный Авраам», упомянутый в поэме Очирова, и рушатся, и «славно валятся» в уготованную им (нам) яму. Природа же вечного, продольного и поперечного времени, на ядро которого устремлен взгляд поэта, такова, что оно всякий раз ускользает от подрыва. Реальное время произвольно меняет скорость и устанавливает свои пределы календарным датам. Несмотря на «царское» отречение Ельцина и поджог новогодней елки, призванный сбросить в пропасть вместо себя камень «небесной каабы», все подчиняющий себе бесчеловечный континуум продолжается, как бесконечный двадцатый век в «Палестине» Очирова: ________________________________________________ 2) Богданов Л. Заметки о чаепитии и землетрясениях. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 324. 3) Хлебников В. Собрание сочинений: В 3 т. СПб.: Академический проект, 2001. Т. 2. С. 177. 4) Baudrillard J. Esprit de terrorisme / Le Monde. 2001.02.11 (http://www.egs.edu/faculty/jean-baudrillard/articles/ lesprit-du-terrorisme). 1. В предисловии к сборнику "Формация" известный критик Виктор Топоров дает резкую и пессимистичную оценку современной поэтической ситуации в городе. Согласны ли вы с его оценкой? Готовы ли вы публиковаться в сборнике с подобным предисловием? 2. Считаете ли вы тон, которым написано предисловие, этически допустимым для представления широкой публике более 120 авторов различных поколений, работающих в разных культурных традициях? Каким должен быть язык современного критика, если он ставит перед собой задачу представить неосведомленному читателю многообразие современной поэзии? 3. Какие принципы и перспективы объединения поэтической среды в Петербурге вы видите? Возможны (и необходимы) ли сегодня литературные группировки, основанные на единстве эстетических позиций или близости культурных интересов? 4. Ощущаете ли вы дефицит литературной и художественной критики сегодня? Имеются ли в Петербурге аудитория для издания поэтического журнала инновационного типа? Александр Скидан 1-2. Тон предсказумо скабрезный, и издательство (и составители антологии), заказывая статью Топорову, дезавуируют тем самым свою издательскую и, шире, культурную политику. В соответствии с которой, "продукт" должен быть окружен аурой скандальности, личных дрязг и провокаций, в противном случае он не привлечет к себе внимания. Это логика культур-индустрии, восторжествовавшая в желтой прессе, на телевидении и в шоу-бизнесе, логика циничная и беспощадная (но не бессмысленная, по крайней мере с меркантильной точки зрения, поскольку приносит дивиденды). По идее, конечно, надо свои тексты из подобных сборников изымать. Но тут в действие вступает "непрозрачность" издательских механизмов (лично я узнал о том, что предисловие и послесловие будут писать, соответственно, В. Топоров и Д. Быков, что называется, в последний момент; кроме того, у антологии два составителя плюс редактор, и за "окончательное решение" непонятно кто отвечает). Махать же кулаками после драки - дело заведомо проигрышное. Придется утираться и "оправлять галстук", как писал Школовский по другому поводу. Понятно, что язык критической статьи должен быть другой. В Петербурге есть, как минимум, десяток по-настоящему сильных, больших поэтов, чья практика взывает к скрупулезному, изощренному анализу, а не навешиванию ярлыков. 2-4. В 90-е, увы, в Петербурге не возникло сколько-нибудь интеллектуального издания, представляющего современную поэзию и критику (в мировом контексте, а не местчековом). Таким изданием мог бы стать - но не стал - "Вестник Новой Литературы", выходивший с начала до середины 90-х. Есть отдельные критики, но, во-первых, они публикуются в московских изданиях (чей уровень, в целом, выше), а во-вторых, ни один из них, кажется, не сподобился очертить внятную карту современной петербургской поэзии или выдвинуть концепцую, претендующую на полноценный охват предмета. Ждать, что кто-то сделает это "со стороны", наивно. Так что журнал "инновационного" типа остро необходим, как и другие институции, способные стать местом пересечения практики, критики и теории. Что касается групп. Прежде чем объединяться, нужно хорошенько размежеваться, гласит старая мудрость. Для этого и нужно проделать критическую, описательную работу. Дмитрий Голынко 1. Пессимистическая оценка, которую Виктор Топоров выносит современной поэтической ситуации, кажется мне достаточно объективной. Дефицит востребованности и кризис логоцентризма - о чем кокетливо говорили в девяностые - сегодня обернулись почти полной утратой интереса со стороны читательской аудитории, даже культурно ориентированной. В чем Топоров прав - питерская поэзия (как поле эстетического поиска) занимается сегодня не производством новых текстов и смыслов, а воспроизводством андеграундного стиля поведения. Словом, одна паленая водка из пластиковых стаканчиков в дешевых шалманах, или, после подорожания, в грязных двориках, шмоняемых ментами. 2. Разумеется, глумливый тон, которым написано предисловие, показался мне этически неприемлемым. Появление такого предисловия - результат захлестнувшего все медиа-цинизма, утверждающего, что любая реклама хороша, даже негативная. Под знаком этого медиа-цинизма прошли 90-ые и нулевые; обернулось это диким снижением качества литературного текста, публикуемого под бумажной обложкой или в Интернете. Сегодня принцип "рекламы от противного" уже не работает, и развязное предисловие Топорова наверняка отпугнет от антологии даже благосклонного читателя. 3. Недавно в Доме книги я осматривал стеллаж Русская поэзия и обнаружил, что все завершается Высоцким, Асадовым и Евтушенко, ничего более нового и актуального не представлено. Это не случайно - современная поэзия выведена (даже исключена) из культурного и социального опыта нации, в общественном сознании она не фигурирует носителем идейного потенциала или ресурсов новизны. Более того, для русского читателя она уже не приравнивается к интенсивной интеллектуальной работе или средству производства и познания Истины. Поэтические объединения сегодня, как правило, возникают в результате стремления приравнять поэзию к облегченному развлечению (типа клубных слэм-турниров), забавляющему публику сниженной и доступной продукцией. 4. Дефицит критики сегодня огромный. Справиться с этой нехваткой, по-моему, может помочь Интернет, дискуссионные подиумы на специальных сайтах и тематические рассылки. На мой взгляд, инновационный журнал сегодня в первую очередь будет сетевым, поскольку именно глобальная сеть позволяет моментально откликаться на сиюминутные эстетические тренды, вести с ними ожесточенную полемику или начинать мгновенно внедрять в литературную практику. Печатный выпуск в этом ракурсе станет результатом (пусть и промежуточным) коллективной сетевой деятельности, очищенной от неминуемого информационного мусора. |
Альманах распространяется в магазине «Порядок слов»
(наб. Фонтанки, 15), в Москве: в Перми: |
|||
|
| альманах | авторы | kraft-серия | мероприятия | видео | пре-принт | экспертиза | блог | написать | english |
DesignStudio *Shellfish* - Russia © 2006 |